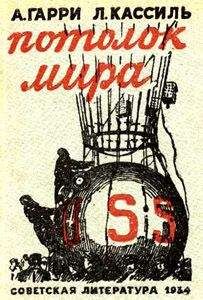Камиль Лемонье - Конец буржуа
— Нельзя так… Ты несправедлива, ты сама отравляешь мне эти счастливые минуты.
Они остановились и некоторое время обе молчали, в каком-то оцепенении глядя друг на друга, не зная, что сказать, как вдруг г-жа Рассанфосс, сделав над собой усилие, воскликнула:
— Разве в твоем сыне не моя кровь? Разве я не такая же мать ему, как ты? Может ли быть иначе?
Она чувствовала, что лжет. Ей стало страшно звука собственного голоса, и вдруг ее неожиданно осенило:-«Верно, это какой-нибудь урод… От него все зло. И для чего только он появился на свет!»
Гислена пожала плечами и сказала:
— Отец держится другого мнения.
— О, твой отец! Да, у него на все свои взгляды. Он ведь мужчина, другое дело — мы. Здесь никого нет, кроме нас, двух женщин — матери и бабушки.
От этих слов на душе у нее стало легче. Она повторила их; они прозвучали для нее, как нежная музыка, растрогали ее, она уже готова была поддаться иллюзии и поверить, что в душе ее пробудилась жалость к отверженному всеми малютке. Она подумала:
«Я любила его еще раньше. А если бы отцом его был Лавандом, я имела бы право его ненавидеть».
И в ней снова вспыхнула прежняя ненависть к виконту. «Право же, я не знаю, что мне делать здесь, рядом с этим человеком и этим ребенком».
Ей захотелось убежать, очутиться где-нибудь совсем далеко.
Они вошли в вестибюль. Гислена помогла матери раздеться. И вдруг сверху до слуха их донесся тихий, нежный младенческий крик, возвещавший о том, что ребенок проснулся. Лицо Гислены сразу смягчилось. На нем появилась какая-то загадочная улыбка, стоило ей только увидеть это маленькое божество, погружавшее в безмолвие весь дом.
— Это он… Сейчас, мама, ты его увидишь.
«А что, если это действительно урод?» — подумала г-жа Рассанфосс, и сердце ее тревожно забилось.
Они поднялись наверх. Задернутые занавеси на окнах погружали комнату в полумрак. Волна света, ворвавшись сквозь приоткрытую дверь, упала на мерно качавшуюся колыбель, в которой шевелилась крохотная темноволосая головка.
— Не заставляй его спать, он не хочет, — сказала Гислена, обращаясь к кормилице. — И потом, знаешь, у него прорезается первый зубок.
И она наклонилась над ребенком, все еще улыбаясь от счастья.
— Здравствуй, Пьер… Мы уже проснулись! Ну, не хочешь — не спи, мои милый… А вот и твоя вторая мама.
Едва малютка увидел мать и услыхал ее нежный шепот, на губках его появилась радостная складка, крошечные ямочки на щечках задрожали, словно капельки росы. Он потянулся к ней, и от этого движения рубашка его распахнулась, приоткрыв кусочек здорового детского тельца, свежего, как только что распустившийся утренний цветок. Гислена положила руку ему под спинку, другую — под плечики и, подняв его с тонкой шерстяной подстилки, покрывавшей матрац, поднесла к г-же Рассанфосс.
Потом, распахнув занавески и впустив в комнату утреннее солнце, она воскликнула:
— Какой он красавец, правда?
— До чего же он на тебя похож, — сказала Аделаида.
Неприязни как не бывало. Из глаз г-жи Рассанфосс брызнули слезы. Она кинулась к Гислене и тихо зарыдала.
— Ах, дитя мое, мое бедное дитя…
Потом она наклонилась и стала покрывать долгими поцелуями тепленькие, шелковистые волосы ребенка.
— Это же вылитая ты!.. Я держу его на руках, и мне кажется, что это ты. Ах, мне сразу стало легче. Ведь и в самом деле я для него вторая мама.
Она вдруг ощутила прилив позабытых материнских чувств; она стала с ним ласково разговаривать, щекотать его своим теплым дыханием. Личико ребенка оживлялось все больше, он радостно ей улыбался.
Веселая улыбка Пьера, то дружелюбие, с которым этот маленький дикарь встречал незнакомое ему лицо, совершили настоящее чудо. Гислена увидела, что лед, который сковывал ее душу, сломан внезапно нахлынувшим порывом чувств. Она ласково прижалась к матери, наклонившись над малюткой, который в это мгновение очутился между ними.
— Ах, мамочка! Ты здесь, у меня!.. Не будем вспоминать прошлое… Это он показал мне пример.
— Да, ты увидишь, ты увидишь, — бормотала Аделаида. — Мы с тобой больше никогда не расстанемся.
В это время крошка потянулся к матери, шаря своими маленькими ручонками по ее корсажу: его полуоткрытые губки искали грудь, на личике появилась гримаса, выражавшая нетерпение.
— Смотри-ка, этот маленький человечек уже хочет поставить на своем! — сказала Гислена.
Она позвала кормилицу Жюстину. Почти в ту же минуту раздался звонок к завтраку. Мать и дочь спустились вниз. Но стул перед третьим прибором пустовал. Г-жа Рассанфосс заволновалась. Значит, виконт дома и вот-вот появится. И она сразу же ощутила весь ужас комедии, которую она играла, всю ложь, окружавшую это материнство, весь обман, жертвою которого стала она сама. О, как бы она хотела быть сейчас в Ампуаньи! Она уже не думала ни о Гислене, ни о ребенке. Вся похолодев, она стала прислушиваться к каждому звуку, доносившемуся снизу. Гислена взяла ее за руку:
— Не беспокойся, никто нас не потревожит. Это место Жюстины, когда мы бываем одни. Мы завтракаем и обедаем всегда втроем — с ней и с Пьером.
— Так позови же ее! — воскликнула Аделаида, облегченно вздохнув и придя в себя. — Я не хочу, чтобы из-за моего приезда ты меняла свои привычки.
Но Жюстина замешкалась, и тогда она сама пошла за ней наверх. Малютка, лежа на коленях кормилицы, болтал ножками в воздухе и непрерывно сосал грудь, обхватив ее своими крохотными ручонками. При каждом движении щечки его слегка втягивались и снова раздувались, едва только молоко начинало струиться. Время от времени голубоватая капелька стекала с подбородка, исчезая за воротом распашонки. Г-жа Рассанфосс смотрела на его ножки, на тельце, которое колыхалось в такт этому движению. Беспредельное удовольствие светилось в его полузакрытых черных глазенках, которые в полумраке слегка отливали синевою.
Дверь в спальню Гислены была открыта. В Аделаиде проснулось женское любопытство: она стала надеяться, что теперь-то разгадает наконец тайну Распелота. Но присутствие кормилицы ее стесняло, она успела только постоять на пороге этой комнаты и окинуть беглым взглядом ее скромную обстановку. Здесь ничто не напоминало о том, что в доме есть мужчина. Кровать была застлана старинным шелковым покрывалом, которое она когда-то подарила дочери: на бледно-голубом фоне были вытканы тусклые цветы. Этим же покрывалом была прикрыта и единственная подушка.
«Значит, все кончено, — подумала она. — Сомневаться не приходится: Лавандом ее бросил!»
Все страхи Аделаиды рассеялись. Она возвратилась к ребенку. Малютка, должно быть, устал, он все еще сосал грудь, но уже еле дотрагиваясь губками до коричневатых сосков, в которых почти не осталось молока.
Как только послышались ее шаги, темненькая головка сразу же обернулась. Ребенок перестал сосать и протянул к ней ручонки. Порыв нежности охватил Аделаиду, она почувствовала, что по-настоящему любит это крохотное существо, что ей жалко этого бедняжку, который не знает отцовской ласки. Кормилица хотела одеть ребенка, но г-жа Россанфосс взяла его на руки, стала целовать его голенькое розовое тельце, а потом сама понесла его вниз, к Гислене.
— Позволь уж мне быть настоящей бабушкой!
— Хорошо! Хорошо! Только, предупреждаю тебя, не надо его баловать. Мой Пьер — это настоящий тиран.
Наконец горничная подала завтрак. Г-жа Рассанфосс, в пылу хозяйственного рвения стала осведомляться о том, сколько они держат слуг, сколько лошадей, какие порядки заведены в доме. Со времени посещения Жана-Элуа здесь все значительно упростилось. Гислена оставила себе только кучера, садовника и двух горничных. На конюшне стояло два пони, других лошадей не было. Все это вполне укладывалось в бюджет семьи среднего достатка.
Г-жа Рассанфосс ее похвалила.
— Ты такая же, как и твоя мать: я узнаю в тебе свою кровь… Видишь ли, без разумной бережливости…
— Ах да, бережливости…
Гислена покачала головой. Казалось, ее мучила какая-то унизительная для нее мысль.
— Нет, это совсем не то, что ты думаешь.
Слова уже чуть было не сорвались у нее с языка; она закрыла глаза, чтобы прийти в себя. Немного помолчав, она сказала с каким-то нервным смехом:
— Да, если хочешь, зови это бережливостью. В конце концов я же веду очень замкнутый образ жизни, я никого не вижу. Для чего же мне делать лишние расходы? Мне вздумалось выездить самой мою гнедую кобылу, это была чудесная лошадь, просто красавица. Но она оказалась очень упрямой. И мне пришлось с ней расстаться. Ну, а отцовские рыжие лошади — те и вообще-то никогда из конюшни не выходили. Франц запрягал их только в открытый экипаж, когда ездил в город за провизией. У меня остались два пони, с меня хватит.
— Ты просто умница. Ты стала практичной. Впрочем, у тебя ведь всегда была страсть к лошадям!