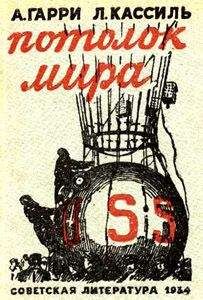Камиль Лемонье - Конец буржуа
Она прильнула губами к его затылку.
Нищий заскрежетал зубами, глаза его вдруг заволоклись туманом, у него задрожали колени. Она быстро сбросила корсаж. Он прильнул к ее телу своими бурыми щеками с неистовым звериным криком, вырвавшимся откуда-то из потаенных глубин той жалкой, одинокой старости, на которую его обрекла судьба. Хозяйка заведения выпроводила всех из комнаты, где остались только они двое, Ренье и маленький Рабаттю. Антонена женщины, убегая, увлекли за собою, и он улегся в постель, продолжая и там предаваться пищеварению. Рабаттю до того устал, что был совершенно безучастен ко всему, что творилось вокруг. Напротив, Ренье, подстегиваемый каким-то сверхъестественным любопытством, внимательно смотрел на это проявление милосердия. Приступы отчаянного кашля то и дело сотрясали девку. Она вся выпрямлялась и издавала какой-то стон, похожий на вой собаки, которая чует смерть. Прижимая платок к губам, она непрерывно сплевывала туда зеленые комки мокроты, предвестники надвигающегося гниения легких. Потом влажными от этой гниющей жижи губами она принималась снова и снова целовать старика, как будто, исполняя некий неумолимый долг, она согласна была умереть, корчась в неистовых судорогах греха. Она заботливо ласкала этого жалкого бродягу, над которым вся компания весело. потешалась, тихо гладила его своими исхудавшими руками, расточала ему какую-то безграничную любовь, и в чувстве ее страсть женщины смешивалась в эти минуты с дочерней нежностью. Это была жалость к несчастному, которого сейчас бросили к ней в объятия, к тому, кто, подобно ей, по только другой дорогой, шел к такой же постыдной смерти.
— Если бы ты только знал, мой милый папуся, — хрипела она, — как все они вешаются мне на шею. Мужики ведь любят таких пропащих, как я. До чего же они пакостны — те, что приходят сюда! Они обнюхивают меня, как падаль, нюхают мне и рот и нос! Я бы не прочь совсем отсюда смотаться и лечь в больницу. Но, представь, мадам не соглашается. Им хочется, чтобы я осталась здесь, я им кругом должна, ну вот, выходит, мне никак и не уйти. Так, видно, и подохну с кем-нибудь в обнимку. Подожди, родненький, опять начинается… Кхе! Кхе!.. Проклятие, будто раскаленные угли в горле. Кха! Кха!.. Да, угли. Они меня прожгут всю насквозь… Ничего, не обращай внимания. Подохну, так господь, верно, сжалится надо мной.
Ренье пришел в неистовый восторг. Это невиданное зрелище — умирающая, которая подавала милостыню, — щекотало его нервы, возбуждало его чувственность. Он растолкал Рабаттю, который уже крепко спал.
— Проснись, дурак! На это ведь стоит посмотреть… Поверь, что в жизни ты такое не часто встретишь… Ну, что, хорошо? Красиво, не правда ли?.. Ох, как красиво… Отец сказал бы, что это мерзость!.. А меня так это потрясает. Да, мой милый, бабенка-то немного получше нас с тобой: рядом с ней мы только вонючие скоты… Посмотри, как нежно она целует этого старика. Надо служить сестрой милосердия у самого дьявола, чтобы у тебя в сердце было столько смелости, столько сострадания. Это совсем особая статья, не то что деньги. И ютится эта человечность в душе у публичной девки, где-то глубоко на дне. Чего ты на меня глаза вылупил? Так оно и есть… Вдвоем они точно две величайшие язвы мира, которые с незапамятных времен поражали род человеческий, — Голод и Проституция, единоутробные брат и сестра. Ты сейчас видишь перед собой нищего и проститутку всех времен. Нищий встретил Проститутку. Проститутка отдает себя из жалости к Нищему… Это священные узы. Если бы в мире была справедливость, надо было бы пышно отпраздновать их свадьбу, сделать из этого великое торжество. Общество должно было бы возблагодарить их обоих.
— Послушай-ка, красавчик, — сказала девка, — я сейчас увожу его. Платить ты, что ли, будешь?
— Само собой разумеется!
Он запустил руку в карман.
— На, возьми. Вот тебе сто франков. А об остальном, пожалуйста, не заботься.
Трепещущий свет газовых рожков озарил лицо нищего. Оно было мертвенно-бледно, одержимо дикой страстью, которая искривила его черты в отвратительную гримасу. Он корчился от боли, словно его пытали.
Он посмотрел на женщину, а потом на Ренье. Это был умоляющий взгляд бездомного пса, который встретил среди ночи добрую душу и плетется вслед за прохожим.
— Ладно, старина. Я все понимаю. Успокойся. Кости изо рта у тебя никто не вырвет. Можешь спокойно обгладывать мясо, которое на ней еще осталось.
Дверь отворилась. Он увидал, как с башмаками в руках старик поднимается по лестнице, крадучись на цыпочках, точно вор. А эта высохшая, как вяленая рыба, женщина, с обгоревшим на огне ночных шабашей телом, с ввалившимися щеками, на которых пробивался чахоточный румянец, шла впереди, расстегиваясь на ходу. Но голос хозяйки заведения, хриплый и сонный, остановил их:
— Эй, куда ты, вернись!
Ренье все уладил.
— Ну, а теперь, милый, — сказал он Рабаттю, — поехали прочь отсюда. С меня хватит. От этого одуреть можно.
Они вышли на улицу. Уже светало. Бледные лучи солнца озаряли крыши. Ренье принялся хохотать.
— Ты, верно, решил, что я с ума спятил? Ничуть. Я рассуждаю совершенно здраво. Знаешь, что я сделал? Я посеял в душе этого простака ненависть. Погоди, к утру он протрезвится, и его вышвырнут на улицу, как мусор. Вот тогда-то и взойдет здоровое семя. Он снова вернется в лес, снова станет бродить там, как дикий зверь, но это уже будет зверь, которого травили, зверь, у которого в лапе застряла пуля. Вообрази только, как умножится его гнев, его злоба, сколько их скопится в этом ублюдке. Он станет проклинать богачей, которые дали ему утолить голод и позволили насладиться женской плотью. Как он ни туп, его это расшевелит, и он будет думать о мести. А там, глядишь, среди ночи кто-нибудь подожжет сарай, или затащит бабу в кусты и там ее изнасилует, или зарежет и ограбит прохожего. Понимаешь, стоит только пробудить зверя в человеке, и все станет возможным. Да, мой милый, вот где истинная гуманность, другой я себе не могу представить. Этому болтуну, этому попугаю Эдоксу такое, пожалуй, невдомек? Не правда ли? Делать добро! Ну, разумеется! Только при условии, чтобы потом из этого в конце концов получилось зло, и зло непоправимое. Недаром за плечами у меня горб!
XXI
Едва только запряженный двумя пони экипаж свернул на Каштановую аллею, г-жа Рассанфосс увидела свою дочь Гислену, которая шла по лужайке ей навстречу. Она заранее старалась представить себе, каким будет их свидание. После столь долгой разлуки дело, разумеется, не обойдется без слез. Ссориться они больше не будут, от былой неприязни не останется и следа. «Да, я все ей скажу, — думала г-жа Рассанфосс, — я открою ей душу; это будет нежная встреча, единение двух сердец, и мы снова полюбим друг друга с прежнею силой». Спокойствие Гислены ее смутило. Они обнялись, но холоднее, чем она ждала. Она сказала, но уже как будто стесняясь собственных слов:
— Боже ты мой! Да мы целую вечность с тобой не видались!
— Целую вечность, да… Только я тебя в этом не упрекаю, мама.
Г-жа Рассанфосс подумала:
«Отец ее был прав, она осталась такой же. Несчастье ничуть ее не изменило».
Экипаж повернул к подъезду.
Некоторое время они шли молча, и слышно было только, как под ногами скрипел песок. Аделаида говорила какие-то ничего не значащие слова о погоде, о цветущем кустарнике на лужайке. Все опять сложилось не так, как она хотела; все построенные ею воздушные замки, все надежды матери рушились сразу. Она почувствовала, что у нее ни на что больше нет сил, ей хотелось плакать. Они поднялись наверх и пошли по террасе. А надо было сделать всего лишь одно движение, сказать друг другу каких-то два-три слова среди нависшей над ними тишины, которая все больше отчуждала их друг от друга, толкала их назад, к прежней вражде. Она испугалась этого молчания и схватила дочь за руку:
— Гислена, милая, родная, брани меня как угодно, только не мучь меня своим молчанием. Нам с тобой так надо любить друг друга, так надо поговорить обо всем. Душой я всегда была с тобой, ты никогда не была одна.
Она надеялась на какой-то ответный порыв, на то, что теперь вот они бросятся друг другу на шею. Вместо этого она услыхала сухие слова:
— Разумеется, я не одна, у меня ведь есть сын.
Аделаида действительно совсем о нем позабыла, и ей вдруг показалось, что в голосе дочери звучит упрек.
— Ну, да, конечно… твой сын! Но ведь раньше-то мы всегда бывали с тобой вдвоем!
— Ты не очень-то торопилась его увидеть — сухо заметила Гислена.
Она отдернула руку. Взглянув на нее, г-жа Рассанфосс побледнела. Теперь их взаимное отчуждение становилось еще сильнее — это было концом всех надежд. Она одновременно почувствовала и гнев, и жалость, и дикий страх потерять дочь. Губы ее задрожали. И каким-то сдавленным голосом, словно ее душили рыдания, она прошептала: