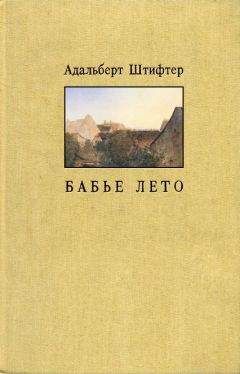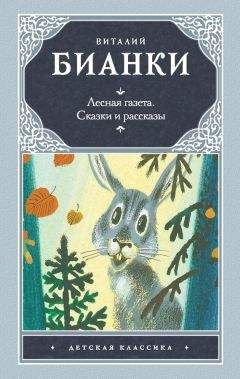Адальберт Штифтер - Лесная тропа
У меня созрел план дальнейших действий. Я обогнул опушку леса и только к вечеру вышел на высоту над Дубками и спустился вниз. Полковника дома не было, Маргарита, как сказали мне, в саду. Однако я не нашел ее там; судя по тому, что задняя калитка стояла настежь, я надеялся встретить ее в соседнем поле. И действительно, выйдя за калитку и оглядевшись, я увидел ее на примыкающей к полю широкой кромке луговины; неяркое закатное солнце отбрасывало на хлеба ее длинную тень. Она гуляла одна — это было в порядке вещей, — я, однако, удивился. Оба волкодава сопровождали ее, они очень любят свою молодую госпожу, вечно к ней ласкаются и в ее присутствии ведут себя на редкость благонравно. Углядев меня в проеме калитки, они запрыгали и заплясали, а потом ринулись ко мне со всех ног, да и Маргарита прибавила шагу, увидев, что я направляюсь к ней. На ней было ее давешнее белое платье, она была так же стройна и хороша, как утром, и так же светло и нежно улыбалась, как улыбалась утром.
Первой заговорила Маргарита.
— Ах, наконец-то… А мы уже тревожились, думали, с вами что стряслось; кузен Рудольф сегодня отбыл, он заходил к вам проститься, только ваши люди сказали ему, что вы уже побывали дома, но снова куда-то собрались и так и не вернулись к обеду. Отец решил, что вас срочно вызвали к больному и, следовательно, беспокоиться нечего. Он поехал проводить Рудольфа до ротбергского трактира, где заказана дорожная карета, а сам вернется на наших лошадях.
— Маргарита, вы меня не любите, — ответил я.
Она удивленно вскинула глаза.
— Что это вам пришло в голову? Вы и не представляете, себе, как я вас люблю! Я всегда вам рада, мне каждый раз грустно с вами расставаться, и я только о вас и думаю, когда вы далеко.
— Нет, вы меня не любите, — повторил я убежденно, и тут ей, по-видимому, бросился в глаза мой измученный вид.
— Что с вами? — встревожилась она. — И что за странные слова! Как это на вас не похоже! Уж не больны ли вы? Судя по вашей одежде, вас бог весть где носило! Успели вы хоть пообедать?
— Нет, я не обедал, — сказал я.
— А тогда пойдемте, я накормлю вас, там еще много чего осталось, вам надо тотчас же покушать.
— Не стану я кушать, — ответил я.
— Быть может, вам нужно поговорить с батюшкой, пойдемте, посидим на скамье, откуда далеко видно дорогу.
— Мне не нужно говорить с вашим батюшкой, — возразил я. — Все, что мне нужно, это сказать вам, что кузена Рудольфа вы любите больше, чем меня.
— Я люблю кузена Рудольфа, потому что так оно подобает, но вас люблю несравненно больше; его я люблю совсем по-другому, да и, согласитесь, он достоин любви. Разве он не показал себя с самой лучшей стороны по отношению к нам, своим кровным?
— Да, он ее достоин, и вы будете все больше любить его и ценить, пока совсем не полюбите.
— Думаю, что так оно и будет, если он станет чаще навещать нас, как обещался.
— Что ж, стало быть, все хорошо, и между нами теперь полная ясность, — заключил я.
Некоторое время мы шагали молча, пока не дошли до садовой калитки, где растут розовые кусты, которые мы с Маргаритой сажали вместе. Тут она остановилась я, обратив ко мне лицо и глаза, сказала:
— Молю вас, милый, дорогой мой друг, от глубины души молю — гоните эти слова и чувства из вашего сердца!
— Да, я прогоню эти чувства из сердца, — ответствовал я. — Вы меня не любите, следственно, я прогоню из сердца эти чувства.
— Я уже сказала вам в дубовой роще, — возразила она, — что, не считая батюшки, вы для меня самый дорогой человек на свете.
— Да, так вы сказали, — подтвердил я, — но много ли в том правды?
На это она и вовсе не стала отвечать. Она совсем умолкла. Вошла в калитку. Я последовал за ней. Вынув из кармашка ключ, она захлопнула калитку и заперла на замок. А затем по прямой аллее направилась к другой калитке, выходящей во двор. Я шел с ней рядом, но чувствовал, что она сторонится меня. Когда мы вошли во вторую калитку, она и ее захлопнула, но не стала запирать, так как эта калитка не запирается. И только тут обратилась ко мне:
— Если вам угодно поговорить с батюшкой, я посижу с вами на скамье, пока вы его не дождетесь.
— Передайте вашему батюшке, что я желаю ему доброй ночи, — сказал я. — А мне домой пора.
— Передам непременно, — отвечала она и остановилась.
Я повернулся и мимо зимнего сада направился к главным воротам, а потом к себе домой.
На следующий день мне предстояло ехать к Эрлеру, который сильно занемог, а потом к Мехтильде, хворавшей желчной горячкой, и еще к двум-трем не столь серьезным пациентам. Я выехал очень рано, чтобы до обеда управиться со всеми делами и с положенными записями.
Наскоро похлебав супу, я больше ни до чего не дотронулся и поспешил наверх в Дубки.
Сперва зашел я к полковнику, которого застал за книгой. Он говорил со мной как обычно и ничем не дал понять, что ему что-то известно. После обмена приветствиями он сообщил мне, что его племянник Рудольф накануне отбыл в свой замок, что он искал меня, желая со мной проститься, но так и не нашел, а потому просил передать мне свои наилучшие пожелания. В заключение он добавил, что он об этом молодом человеке самого высокого мнения и рад, что семейная распря окончательно улажена, а также что, если юноша будет и дальше держаться тех же отличных правил, из него выйдет простой, сердечный и дельный человек. Я не замедлил с ним согласиться, ибо так оно и было на самом деле.
Этим наш разговор и ограничился.
Я сказал полковнику, что хочу еще зайти к Маргарите. Он привстал, и я откланялся. Мне не возбранялось в любое время заходить к Маргарите, не было случая, чтобы полковник против этого возразил.
Я направился к ней по коридору. Когда я отворил дверь, она стояла у стола и, по-видимому, ждала меня. Обычно, зная, что я у ее отца, Маргарита сразу же, сияя от радости, присоединялась к нам; не то сегодня. Она была, как всегда, тщательно одета, но уже не в том платье, что вчера. На столике лежал увядший букет полевых цветов, собранных накануне и перевязанных сорванной в поле травой. Я заметил среди цветов и такие, каких еще не было в нашем гербарии, или которые нам не удалось хорошо засушить.
Когда я подошел к ней и заглянул ей в глаза, она сказала:
— Я сегодня ждала вас, чтобы сообщить, что я надумала этой ночью и что вам также необходимо знать. Я мечтала сделаться вашей женой, да и батюшка души в вас не чает. Но уж раз все у нас так изменилось, должна предупредить вас, что этому не бывать.
Я посмотрел на нее. Направляясь в Дубки, я еще и сам не знал, что скажу ей, знал только, что мне надо как можно скорее подняться в Дубки. Но, услышав от Маргариты эти слова, я испугался. Я взял ее за руку, которую она не отняла, и повел к окну. Понимая, что я хочу ей что-то сказать, она присела на мягкую скамеечку в оконной нише. Я пододвинул себе такую же скамеечку и, усевшись напротив, стал ее уговаривать. Я говорил очень долго, но что говорил, не вспомню и, следственно, не могу это записать. Не помню также, что она отвечала мне: знаю только, что это было совсем не то, чего я добивался, и что она осталась верна своему решению. Потом она замолчала, и чем торопливее и горячее я убеждал ее, тем больше она замыкалась в себе. Когда же я заговорил резче и настойчивее, внезапно произнесла:
— Уж не кликнуть ли мне батюшку, чтоб он меня защитил?
Услышав это, я вскочил и сказал:
— Нет, ни в коем случае, в этом нет никакой надобности! Пусть будет по-вашему! Все хорошо, хорошо, хорошо!
Вот тут-то и приключилось со мной это затемнение памяти, у меня все решительно вылетело из головы. Я повернулся, твердым шагом направился к воротам и поспешил домой.
Какое-то безразличие ко всему напало на меня. Я хотел лишь одного: крушить, ломать, казнить все и всех на свете.
Я уже в начале этой книги рассказал, как бросился в рощу к одной из запомнившихся мне берез, и как полковник последовал за мной, и какой у нас вышел разговор.
Я чуть было не совершил великий грех, и это потрясло мою душу. До сих пор я во всех поступках сохранял спокойствие и трезвый ум — не понимаю, как подобное могло со мной случиться, как взбрела мне такая мысль. У меня и сегодня это не укладывается в голове…
Отныне я повинен с еще большим рвением выполнять свое назначение, вникать в самые заповедные его глубины, не останавливаясь перед величайшими трудностями, не пренебрегая мельчайшими обязанностями, чтобы искупить свое тяжкое прегрешение.
Я потому и начал свои записки с этого случая, что он потряс меня до глубины души, и я видел в них единственную возможность дать новое направление своим мыслям и чувствам!
Глубокая печаль охватила меня. Вечером я вернулся домой, но так и не забылся сном. Весь следующий день провел я один, а на третий отправился наверх к полковнику. Он поведал мне историю своей жизни, и она глубоко потрясла меня. Потом он спросил, не зайду ли я к Маргарите и не поговорю ли с ней по-хорошему? И когда я согласился, провел меня по коридору и по желтой циновке в ее переднюю комнату. Так как ее там не было, он предложил мне подождать, сказав, что позовет ее и больше ко мне не выйдет, а удалится к себе через библиотеку. И он в самом деле не вернулся; спустя немного полуоткрытая дверная створка еще чуть приотворилась, и в комнату вошла Маргарита. Взгляд ее был устремлен на меня. Она была так же простодушно прекрасна, как предмет, в честь которого она названа, ибо имя ее на языке древних римлян означает — жемчужина. Полковник ни словом не заикнулся ей о том, что я собирался над собой сотворить, — это было по всему видно; ее глаза были устремлены на меня. Она вышла ко мне на середину комнаты, я, как всегда при наших встречах, протянул ей руку, и она не отказалась ее взять, но наши руки тотчас же разомкнулись.