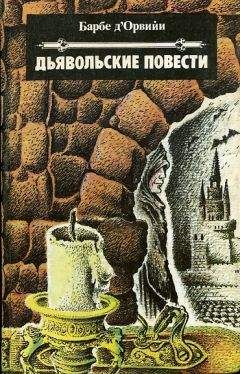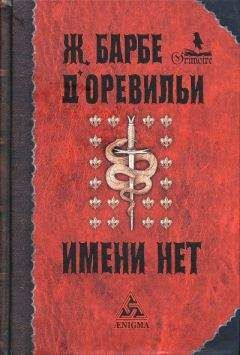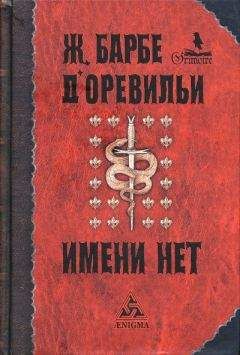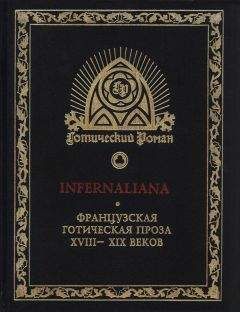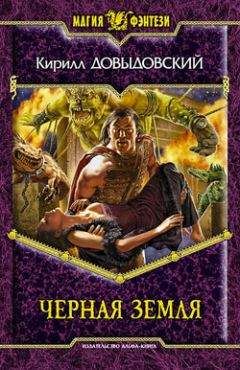Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Порченая
А мертвая Жанна все лежала среди прибрежной осоки, дожидаясь представителей власти — врача и пристава из Белой Пустыни, — что должны были «опознать мертвое тело», как гласит равнодушный язык закона. Обыватели, поспешившие к озерцу с тем, чтобы потешить любопытство неожиданным зрелищем, потихоньку разошлись, вспомнив о неотложных каждодневных делах, однако же дорогой беспокойно перешептывались, гадая и перебирая причины случившейся беды.
Схлынувший поток зевак оставил возле покойницы управляющего Кло — он сидел, дожидаясь прихода властей, — и Нонон Кокуан, которая сама захотела побыть возле умершей. Да и как могла Нонон остаться в стороне? Это она-то, так преданно любившая Жанну? Все последнее время портниха мужественно защищала хозяйку Ле Ардуэй от нападок недоброжелателей, обвинявших несчастную в забвении праведной стези долга и порядка из-за овладевшей ею «страсти к погибели», подразумевая под «погибелью» посещения Клотт и таинственные свидания с аббатом де ла Круа-Жюганом. Нонон глубже всех в деревне — не считая, наверное, старой Клотт — потрясла безвременная смерть Жанны: одно разбитое сердце всегда чувствует боль другого. Защищая ее при жизни, Нонон сострадала несчастной любви Жанны Мадлены, хотя та ни словом о ней не обмолвилась; Нонон поняла все без слов: она и сама любила в юности, и так же несчастливо, и поэтому день за днем неподалеку от отчаявшейся влюбленной изнемогала от молчаливой жалости. Из почтения к хозяйке Кло простая поденщица не осмелилась выразить свое сочувствие вслух или дать знать о нем безмолвным, красноречивым знаком, который, не раня, тронул бы сердце лаской, зато теперь она без опаски выражала свою привязанность безутешным плачем. Я уже говорил о простодушии Нонон, портниха не сомневалась, что душа Жанны Мадлены видит, как горько она плачет возле оставленного ею тела… О посмертной признательности тех, кого мы тайно любили при жизни, говорит религия своим чадам, утешая за все несбывшееся здесь, на земле. Нонон Кокуан ощущала на себе дуновение Божьей благодати, и горькие слезы, которые она проливала, становились все слаще.
Между тем ослепительное утро превратилось в ослепительный день. Может быть, в самый чудесный из летних дней: воздух был свеж и прозрачен, озерцо сверкало, травы пахли пряно и сладко, солнце грело все жарче и жарче, бабочки, шмели и пчелы, привлеченные неподвижностью Жанны, вились и жужжали вокруг нее, а она лежала, будто преждевременно срезанный цветок. Нонон, то сидя, то опустившись на колени, перебирала четки и молилась Той, что жалеет нас и тогда, когда Господь занят лишь Своей справедливостью, ибо Он одарил Свою мать даром быть милосерднее, чем Он сам.
Время от времени набожная Нонон поднимала прекрасные голубые глаза — их лазурь сияла чище и ярче от загоревшегося сердечного огня — к другой лазури, которую не помрачали ни века, ни бури, и сквозь ее сияние видела Жанну, что наклонялась к ней с ласковой улыбкой. Управляющий сидел по другую сторону от покойницы и подавленно молчал — близость смерти часто действует угнетающе на ограниченных людей.
Солнце припекало все сильнее, Нонон прикрыла лицо Жанны тем самым алым передником, кусочек которого остался в руках у Клотт, пытавшейся удержать свою гостью. Единственный лоскуток царственного пурпура, приготовленный судьбой для родовитой патрицианки. Много лет под грубой шерстяной кофтой томилась спеленутая, перекрученная, задавленная душа аристократки, но в один прекрасный день, почуяв близость другой, себе подобной, она рванулась на волю, разбила земной уклад, сосуд, жизнь.
«Тело опознали» только к вечеру. Освидетельствовав покойницу, пристав распорядился отнести Жанну в ближайший к луговине дом. Похороны хозяйки Ле Ардуэй назначили на следующий день после отпевания в церкви Белой Пустыни. Добрый кюре Каймер, хоть и не знал доподлинно, какой смертью умерла Жанна, не захотел отягощать себя исполнением сурового канонического правила, которое отказывает в христианском погребении самоубийцам, умершим без покаяния перед кончиной. Он глубоко почитал «питательницу своих бедняков», и сердце у него разорвалось бы, если бы он не благословил ее прах. Господь избавил милосердного священника от непосильного испытания, Ему одному вручила Жанна тайну своей смерти, и Он позволил похоронить ее в освященной земле.
Поутру Жанну отнесли в церковь, битком набитую множеством народа: люди стеклись отовсюду, из своего прихода, из соседних — Литера, Нефмениля. Колокола Белой Пустыни, по старинному нормандскому обычаю, звонили весь день накануне и все утро следующего дня, оповещая соседние деревни, что умер «кто-то из богатых». А из уст в уста передавалась весть о смерти хозяйки Ле Ардуэй. В Нормандии — так было даже во времена моей юности — самым важным событием, собиравшим больше всего народу в церковь и больше всего волновавшим воображение, всегда были похороны. Люди посторонние спешили на них наравне с родней, безбожники — наравне с набожными. Но похороны у нас проходят совсем не так, как, например, в Шотландии, где непременно поминают покойника застольем и поминки нередко завершаются сварой, грубой и неблагочестивой. В Нормандии после погребения приглашаются к столу только духовные лица, а все остальные уходят как пришли, с пустыми животами — влечет к себе людей не угощенье, а смерть, всегда волнующая, всегда поучительная, она наставляет на добрые мысли и порой помогает им добраться и до сердца.
Похороны хозяйки Ле Ардуэй тоже собрали великое множество народа, но, к сожалению, не только потому, что покойницу отпевали в церкви и она на десять лье в округе слыла королевой среди хозяек. Может быть, еще притягательней оказался душок преступления, что окутывал, будто облаком, ее противоестественную кончину. Вполне возможно, на похороны Жанны люди пришли, желая узнать подробности ее сомнительной кончины, а не для того, чтобы благоговейно отдать последний долг. Нескончаемой работе человеческих языков не мешает ни следование за гробом, ни засыпание могилы, их не останавливает ни панихида, ни уважение к смерти — они работают, утоляя неутолимое любопытство, доставшееся нам от Евы и толкнувшее ее к падению. Возможно, впервые в жизни вид гроба не погрузил собравшихся крестьян в невеселую степенную задумчивость, обычно сопутствующую смерти, а растревожил, напротив, смутным беспокойством.
Всех и каждого смущало, что на похоронах нет ни одного родственника покойной. В глубине души крестьяне глубоко почитают семейные связи, как научило их тому христианство. В отсутствии родных всем виделся знак чего-то страшного и постыдного. Управляющий позаботился передать приглашения всем, но родственники Жанны де Горижар, уронившей себя недостойным браком с простолюдином, и помыслить не могли явиться на похороны, а родня Фомы Ле Ардуэя, завидовавшая его неправедно нажитому богатству и недовольная женитьбой, сразу отделившей его от общего клана, тоже не пожелала идти за гробом усопшей. И вот гроб, который, по местному обычаю, несли на полотенцах батраки из Кло, плыл в пустоте, а на почтительном расстоянии за ним шла тесная толпа приходских бедняков со смоляными факелами, надеясь получить потом серебряную монетку и белый хлебец.
В Белой Пустыни не помнили похорон, где бы место за гробом, обычно заполненное плачущими людьми в трауре, пустовало. Вот об этом-то и толковали без устали. В церкви все головы повернулись к скамье, где должен был бы сидеть хозяин Ле Ардуэй, но нет, его там не было. Ле Ардуэй так и не вернулся больше в Кло. Искали глаза присутствующих и еще одного человека — аббата де ла Круа-Жюгана — и тоже напрасно. Уехав накануне в Монсюрван, он до сих пор не вернулся от графини Жаклины. Всю заупокойную службу пустовала его дубовая скамья на клиросе, знаменитый черный капюшон, который виднелся на ней каждое воскресенье, так и не появился.
Прихожан так занимало отсутствие двух мужчин, что они не обратили внимания на присутствие женщины, а ее появление было более чем знаменательно.
Клотт то ли из-за неверия, то ли из-за недуга никогда не появлялась в церкви, ее не видели там вот уже пятнадцать лет. Справедливости ради добавим, что ее вообще нигде не видели, так как добиралась она разве что до своего порога. Природа наделила Клотт мужеством и душевной стойкостью, она не оскорбляла святынь, она их чуждалась, не позволяя вторгаться в свою жизнь. Иродиада из Надмениля, свирепо расправлявшаяся с мужчинами бичом своей красоты, в старости превратилась в отшельницу. Вторая Мария Египетская, только с кровоточащей гордыней, она и не подозревала, какую душевную силу могла бы обрести у подножия креста. Кюре Каймер, обходя на Пасху своих прихожан, заходил и к ней, присаживался у постели и говорил о том утешении, какое она почерпнет в исполнении христианского долга. Клотт в ответ улыбалась с горьким высокомерием. Неплодная себялюбивая Рахиль не искала для себя утешений, она потеряла все, утратив красоту и молодость. С надменной улыбкой смотрела она на простака священника, мальчишку ее деревни, что рос у нее на глазах, шагал по борозде за плугом, не обладал и тенью породы, а порода в глазах женщин, подобных Клотт, и есть та благодать, какой не дает и помазание святым елеем. Высокомерная улыбка, горделивое отчаяние, не позволяющее себе ни единой жалобы, — такой она была всегда, и такой из года в год видел ее священник. Царственная манера Клотт пригубливать жалкий абсент, держа стакан, будто драгоценный бокал на пиру в замке Надмениль, ее снисходительная усмешка подавляли кюре, и слова, которые могли бы обратить Клотт к вере, замирали у него на губах. Так говорил сам кюре, и его эта женщина, отягощенная греховной жизнью, плохо одетая, живущая в жалком домишке, заботила куда больше, чем графиня де Монсюрван, украсившая сводчатую залу своего замка вырезанными из дуба гербами, дерзко возродив память о предках-феодалах, словно смерч революции не смел все права и привилегии, которые олицетворяли древние гербы. Добрый кюре вопрошал себя, что станется со старухой Клотт, — жизнь ушла на грехи и высокомерное неверие, не так-то много осталось у нее времени, чтобы подать пример раскаяния…