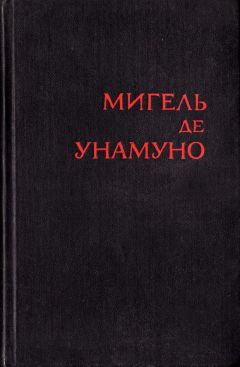Мигель Унамуно - Мигель де Унамуно. Туман. Авель Санчес_Валье-Инклан Р. Тиран Бандерас_Бароха П. Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро
Не успел он объяснить цель своего визита, как эрудит его перебил:
— Ах, бедный сеньор Перес, как я вам сочувствую! Вы собираетесь изучать женщин? Ну и задачка, я вам скажу…
— Но ведь вы-то их изучаете!
— Приходится жертвовать собой. Да, труд, труд невидимый, терпеливый, безмолвный — вот смысл моей жизни. Как вы знаете, я — скромный, маленький труженик мысли, я собираю и упорядочиваю материалы, чтобы те, кто последует за мной, сумели ими воспользоваться. Человеческое творчество коллективно, все неколлективное не может быть прочным и долговечным.
— А творения великих гениев? «Божественная Комедия», «Энеида», трагедии Шекспира, картины Веласкеса…
— Все они коллективные, гораздо более коллективные, чем принято считать{70}. Например, «Божественная Комедия» была подготовлена целым рядом…
— Да, это я уже слыхал.
— Что же касается Веласкеса… Кстати, вы знакомы с книгой Жюсти о нем?
В глазах Антолина основная, чуть ли не единственная ценность великих шедевров человеческого таланта состоит в том, что они послужили поводом для какой-нибудь критической книги или комментария. Великие художники, поэты, композиторы, историки, философы родились для того, чтобы некий эрудит составил их биографию, а критик прокомментировал их произведения, и любая фраза великого писателя не имеет никакой ценности до тех пор, пока эрудит не повторит ее со ссылкой на произведение, издание и страницу. А все разговоры о солидарности в коллективном труде были не более чем выражением зависти и бессилия. Папарригопулос принадлежал к тому сорту комментаторов Гомера, которые, если бы сам Гомер ожил и вошел бы со своими песнями в их кабинет, прогнали бы его взашей, потому что он помешал им работать над мертвыми текстами его собственных произведений и выискивать там какой-нибудь «апекс»{71}.
— Но что же вы думаете о женской психологии? — спросил его Аугусто.
— Вопрос столь широкий, столь всеобъемлющий и абстрактный не имеет точного смысла для скромного исследователя вроде меня, друг мой Перес, для человека, который, не будучи гением, да и не желая им быть…
— И не желая?
— Да, да, не желая. Это скверное занятие. Так вот: ваш вопрос лишен для меня конкретного смысла. Чтобы ответить на него, потребовалось бы…
— Ну конечно, припоминаю одного из ваших коллег, написавшего книгу о психологии испанского народа; сам он, кажется, испанец и живет среди испанцев, но ничего лучшего он не придумал, как написать, что этот сказал так, а тот — этак, и составить библиографию.
— Ах, библиография! Да, знаю.
— Нет, не продолжайте, пожалуйста, дорогой Папарригопулос, а скажите мне как можете конкретней, что вы знаете о психологии женщин.
— Сначала следовало бы сформулировать первый вопрос. А именно: есть ли у женщины душа?
— Помилуйте.
— Не стоит сразу отвергать его, да так решительно!
«Есть ли душа у него?» — подумал Аугусто и затем сказал:
— Пусть так, но о том, что у женщин заменяет душу, что вы думаете?
— Обещаете, друг мой Перес, хранить в секрете то, что я вам сейчас скажу? Впрочем, вы ведь не эрудит.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что вы не из тех, кто готов украсть у человека последнюю услышанную мысль и выдать ее за свою.
— А есть и такие?
— Ах, друг мой Перес, эрудит по природе своей — воришка; это говорю вам я, я — сам эрудит. Мы заняты тем, что отнимаем друг у друга маленькие находки, проверяем их и пуще всего боимся, чтобы никто другой не опередил нас.
— Это понятно: хозяин склада хранит свой товар с большим тщанием, чем хозяин фабрики; воду надо хранить, когда она в колодце, а не в источнике.
— Пожалуй. Так вот, если вы, не эрудит, обещаете хранить мой секрет, пока я сам его не раскрою, то расскажу вам, что я нашел у малоизвестного и темного голландского автора семнадцатого века интереснейшую теорию женской души.
— Любопытно.
— Он пишет — на латыни, естественно, — что если каждый мужчина обладает своей душой, то женщины все наделены одной-единственной, коллективной душой, — чем-то вроде деятельного разума у Аверроэса{72}, — распределенной между ними всеми. Он добавляет еще, что наблюдаемые различия в образе чувств, мышления и любви у каждой отдельной женщины происходят всего лишь от различий телесных, обусловленных расой, климатом, питанием и так далее, а потому незначительны. Женщины, пишет этот автор, схожи меж собой гораздо больше, чем мужчины, и это потому, что все они — одна-единственная женщина.
— Теперь я понимаю, дорогой Папарригопулос, почему едва я влюбился в одну женщину, как сразу почувствовал, что влюблен и во всех остальных.
— Естественно! И еще говорит этот интереснейший и почти неизвестный женовед, что в женщине гораздо больше индивидуальности, но гораздо меньше личности, чем в мужчине; каждая из них чувствует себя более индивидуальной, чем любой мужчина, но с меньшим содержанием.
— Да, да, я, кажется, понимаю.
— А потому, приятель Перес, все равно, будете ли вы изучать одну женщину или нескольких. Проблема в том, чтобы углубиться в ту, изучению которой вы себя посвятили.
— А не лучше ли взять двух или больше женщин, чтобы провести сравнительное изучение? Вы знаете, сейчас очень увлекаются сравнительным методом.
— Действительно, наука есть сравнение; но в случае с женщинами нет надобности сравнивать. Кто хорошо знает одну, тот знает всех. Тот знает Женщину. Кроме того, вам известно: что выигрываешь в широте, то проигрываешь в глубине.
— Верно, и я собираюсь заняться интенсивным, а не экстенсивным изучением женщины. Но, по крайней мере, двух, минимум двух женщин.
— Нет, двух не стоит. Ни в коем случае! Если уж вам мало одной, — а это мне кажется наилучшим вариантом и тоже задача нелегкая, — возьмите трех. Парность не замкнута.
— Как это — парность не замкнута?
— Конечно. Двумя линиями нельзя отграничить пространство. Самый простой многоугольник — это треугольник. Возьмите трех.
— Но у треугольника нет глубины. Самый простой многогранник — это куб; так что выходит по меньшей мере четыре.
— Но две не надо, ни в коем случае! Уж если не одну, то, по крайней мере, три. Но углубляйтесь в одну.
— Так я и намерен делать.
XXIV
После свидания с Папарригопулосом Аугусто говорил себе: «Итак, придется отказаться от одной из двух либо найти третью. Впрочем, для психологического исследования третьим членом, чисто идеальным третьим членом сравнения прекрасно может послужить Лидувина. Вот теперь у меня есть три: Эухения дает пищу моему воображению, голове; Росарио дает пищу моему сердцу, а кухарка Лидувина — моему желудку. Голова, сердце и желудок символизируют три свойства души, которые иначе называются разумом, чувством и желанием. Думают головой, чувствуют сердцем, желают желудком. Это очевидно! А теперь…»
«Теперь, — продолжал он думать, — блестящая мысль! Великолепнейшая! Притворюсь-ка я, будто снова собираюсь жениться на Эухении; снова сделаю предложение и посмотрю, согласится ли она избрать меня своим женихом, своим будущим мужем; конечно, я это сделаю только для проверки, как психологический эксперимент, ведь я уверен, что она мне откажет… А вдруг?.. Этого только не хватало! Она должна мне отказать. После всего случившегося, после сказанного ею при последнем свидании ее согласие невозможно. Она — женщина слова, как мне кажется. Но разве женщины держат слово? Разве женщина, Женщина с большой буквы, единственная, воплощенная в миллионах женских тел, более или менее красивых — скорее более, чем менее, — разве эта Женщина обязана хранить свое слово? Быть может, это лишь свойство мужчины? Но нет, нет! Эухения не даст мне согласия, она меня не любит. Не любит и уже приняла мой подарок. А если она приняла мой подарок и пользуется им, зачем ей любить меня?
Но если, отказавшись от своих слов, она мне скажет «да» и возьмет меня в женихи, а в будущем и в мужья? Ведь надо продумать все. Так, если она согласится? Она выиграет! Она поймает меня на мою собственную удочку! Вот и получится рыбак на крючке! Но нет, нет, этого не может быть! А если да? Тогда придется смириться. Смириться? Да, смириться. Надо уметь смиряться перед счастливой судьбой. Выть может, умение смиряться перед счастьем — самая трудная наука. Не говорил ли Пиндар, что все несчастья Тантала произошли от его неумения справиться со своим счастьем?{73} Если Эухения мне скажет «да», даст согласие, тогда… победит психология? Да здравствует психология! Но нет, нет, нет! Она не согласится, не может согласиться, хотя бы потому, что хочет, чтобы вышло по ее воле. Такая женщина, как Эухения, не даст себя в обиду; Женщина, когда она восстает против Мужчины, чтобы испытать, кто из них упорнее и постояннее в своих желаниях, способна на все. Нет, она не даст мне согласия!»