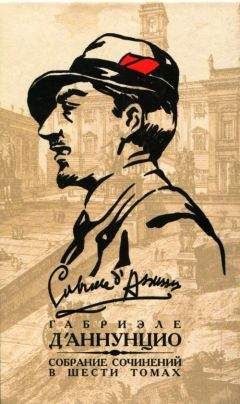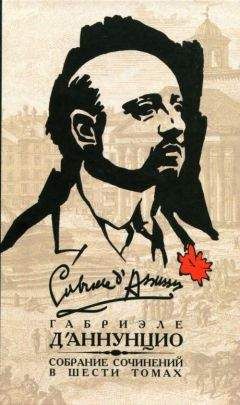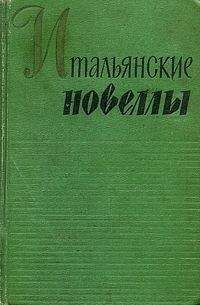Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
Мы не могли бы скрыть от матери… Она спросила бы тебя: «Почему она захотела умереть?» Она узнала бы истину, которую мы до сих пор скрывали от нее. Бедная, святая женщина! — Горло ее сдавливалось, голос хрипел и дрожал, точно от непрерывного плача. Тот же узел сжимал и мое горло.
— Я думала об этом; и когда ты звал меня в деревню, я думала, что я недостойна ее поцелуев в лоб, недостойна называться ее дочерью. Но ты знаешь, как мы слабы, как легко мы отдаемся течению обстоятельств. Я ни на что не надеялась, я хорошо знала: кроме смерти для меня нет другого исхода; я знала, что с каждым днем этот круг становится тесней.
И, тем не менее, дни проходили за днями, и я ни на что ни решалась. А у меня было верное средство!
Она остановилась. Повинуясь импульсу, я поднял глаза и пристально посмотрел на нее.
Дрожь пробежала по ее телу; боль, причиняемая моим взглядом, была так очевидна, что я снова опустил голову и принял прежнюю позу.
До сих пор она стояла. Она села.
Наступила минута молчания.
— Думаешь ли ты, — спросила она с мучительной робостью, — думаешь ли ты, что грех велик, если душа не участвует в нем?
Достаточно было одного упоминания о грехе, чтобы поднять во мне всю успокоившуюся было грязь; я почувствовал прилив горечи. Невольно с моих губ сорвалась насмешка. Я сказал, делая вид, что улыбаюсь:
— Бедная душа!
На лице Джулианны появилось выражение такого мучительного страдания, что я тотчас же глубоко раскаялся. Я заметил, что не мог нанести ей более жестокой раны; ирония в эту минуту над этим побежденным существом была худшей из подлостей.
— Прости меня, — сказала она с видом человека, пораженного насмерть (и мне показалось, что глаза у нее были кроткие, почти детские; такое выражение я видел у раненых, лежащих на носилках), — прости меня. Ты тоже вчера говорил о душе… Ты думаешь теперь: «Подобные вещи женщины всегда говорят в свое оправдание». Но я не вижу оправданий. Я знаю, что прощение немыслимо, что забвение немыслимо. Я знаю, что для меня нет исхода. Понимаешь?
Я хочу только, чтобы ты простил мне поцелуи, похищенные у твоей матери…
Она продолжала говорить тихим, очень слабым голосом, тем не менее, он был раздирающий, как резкий, неотвязчивый крик.
— Я чувствовала на своем челе такое страдание, что ради этого страдания, Туллио, не ради меня, я принимала поцелуи твоей матери. Если я была недостойна, то мое страдание было достойно. Ты можешь простить меня.
Во мне шевельнулось чувство любви, жалости, но я не поддался ему. Я не смотрел ей в глаза. Мой взгляд невольно искал видимого изменения в ее фигуре; и я делал над собой неимоверные усилия, чтобы удержаться от желания сделать безумный поступок.
— В некоторые дни я откладывала с часу на час исполнение моего решения; мысль об этом долге, о том, что произошло бы в этом случае, лишала меня храбрости. Таким образом исчезла надежда скрыть правду, спасти тебя; потому что с первого же дня мать догадалась о моем положении. Помнишь тот день, когда я почувствовала тошноту у окна, от желтофиолей? С того дня мать и заметила. Представь себе мой ужас! Я думала: «Если я лишу себя жизни, Туллио все узнает от матери! Кто знает, к чему приведут тогда последствия моей вины!» День и ночь я мучилась, чтобы найти средство спасти тебя. Когда ты в воскресенье спросил меня: «Хочешь, мы поедем во вторник в Виллу Сиреней?» — я согласилась без размышлений, отдаваясь судьбе, случаю. Я была уверена, что не доживу до следующего дня. Эта мысль поднимала меня, вызывала во мне какое-то безумие. Ах, Туллио, вспомни твои вчерашние слова и скажи мне, понимаешь ли ты теперь мою муку?.. Понимаешь ли?..
Она наклонилась, она потянулась ко мне, точно желая вложить мне в душу свой вопрос, полный отчаяния; и, скрестив пальцы, она ломала свои руки.
— Ты никогда так не говорил со мной, у тебя никогда не было такого голоса. Когда там на скамейке ты спросил меня: «Может быть, поздно?» — я посмотрела на тебя, и лицо твое испугало меня. Могла ли я ответить тебе: «Да, чересчур поздно». Могла ли я вдруг разбить тебе сердце? Что было бы с нами? И тогда я решила испытать в последний раз опьянение, стать безумной, я видела перед собой лишь смерть и свою страсть.
Голос ее страшно хрипел. Я взглянул на нее; мне показалось, что я не узнаю ее, так она изменилась. Все черты ее исказились от пробегавших судорог; губы ее дрожали; глаза блестели лихорадочным огнем.
— Ты осуждаешь меня? — спросила она глухо и с горечью. — Ты презираешь меня за вчерашнее?
Она закрыла лицо руками. Потом после паузы, с непередаваемым выражением отчаяния, ужаса и страсти, с выражением, шедшим, кто знает, из какой глубины ее существа, она прибавила:
— Вчера вечером, чтобы не уничтожить то, что оставалось от тебя у меня в крови, я медлила принять яд.
Руки ее упали. Она стряхнула с себя минуту слабости решительным движением. Голос ее стал крепче.
— Судьба хотела, чтобы я дожила до этого часа. Судьба хотела, чтобы ты узнал правду от твоей матери, от твоей матери! Вчера вечером, когда ты вошел ко мне, ты уже все знал. И ты молчал; и ты поцеловал меня в щеку, на глазах твоей матери. Дай мне перед смертью поцеловать твои руки. Большего я ничего у тебя не прошу. Я ждала тебя, чтобы исполнить твою волю. Я готова на все. Говори.
Я сказал.
— Ты должна жить.
— Невозможно, Туллио, невозможно! — воскликнула она. — Думал ли ты о том, что случится, если я останусь жива?
— Я думал об этом. Необходимо, чтобы ты жила.
— Какой ужас!
Она сильно вздрогнула, она сделала инстинктивное движение ужаса, может быть, потому, что почувствовала в себе другую жизнь того, кто должен был родиться.
— Выслушай меня, Туллио. Теперь ты все знаешь; теперь я могу не убивать себя с целью скрыть свой позор, с целью избежать встречи с тобой. Ты все знаешь; и вот мы здесь, и можем смотреть друг на друга, и можем говорить, но теперь дело идет о другом. Я не хочу обмануть твою бдительность, чтобы лишить себя жизни. Я хочу, чтобы и ты помог мне исчезнуть самым естественным образом, чтобы ни в ком в этом доме не возбуждать подозрений. У меня два яда, морфий и сулема. Может быть, они не годятся. Может быть, трудно будет скрыть смерть от отравы. Нужно, чтобы смерть моя казалась невольной, вызванной каким-нибудь случаем, несчастьем. Понимаешь? Таким образом мы достигнем цели. И тайна останется между нами двоими…
Теперь она говорила быстро, с выражением энергичной решимости, точно она старалась убедить меня согласиться на полезное дело, а не на убийство, не на принятие участия в исполнении безумного решения. Я предоставлял ей продолжать. Какая-то странная притягательная сила заставляла меня смотреть и слушать это хрупкое, болезненное, бледное существо, охваченное теперь волнами такой душевной энергии.
— Послушай меня, Туллио. У меня есть одна мысль. Федерико рассказал мне о твоем сегодняшнем безумстве, об опасности, которой ты подвергся сегодня на берегу Ассоро, он мне все рассказал. Я подумала, дрожа: «Кто знает, какой приступ страдания заставил его подвергнуться этой опасности». И, подумав, мне показалось, что я все поняла. Я все отгадала. Моя душа предвидит все твои будущие страдания, страдания, от которых ничто не защитит тебя, страдания, которые будут увеличиваться с каждым днем, безутешные, невыносимые. Ах, Туллио, ты, наверное, уже представил их себе и думаешь, что не сможешь их перенести. Есть только одно средство спасти тебя, меня, нашу душу, нашу любовь; да, дай мне сказать это — нашу любовь. Дай мне еще верить твоим вчерашним словам, дай мне повторить тебе, что я люблю тебя, как никогда раньше не любила. Именно потому, именно потому, что мы любим друг друга, нужно мне исчезнуть с лица земли, нужно, чтобы ты не видел меня больше.
Чрезвычайно нравственный подъем отражался в ее голосе, во всей ее фигуре в этот момент. Дрожь пробежала по моему телу; мимолетная иллюзия овладела моей мыслью. Я действительно думал, что в эту минуту моя любовь и любовь этой женщины встретились во всей их идеальной чистоте, избавленные от всякой человеческой ничтожности, не запятнанные грехом. У меня опять на некоторое время было то же ощущение, испытанное вначале, когда внешний мир казался мне окончательно исчезнувшим. Потом, как всегда, наступила реакция. Это состояние духа не было моим, оно стало для меня объективным, сделалось для меня чуждым.
— Выслушай меня, — продолжала она, понижая голос, точно боясь, что кто-нибудь услышит ее. — Я высказала Федерико желание видеть лес, угольщиков, все эти места. Завтра утром Федерико не может сопровождать нас, потому что ему нужно ехать в Казаль-Кальдоре. Мы поедем вдвоем. Федерико сказал мне, что я могу ехать на Искре, когда мы будем на берегу… я сделаю то, что ты сделал сегодня утром. Случится несчастие. Федерик сказал мне, что из Ассоро нет спасения… хочешь?