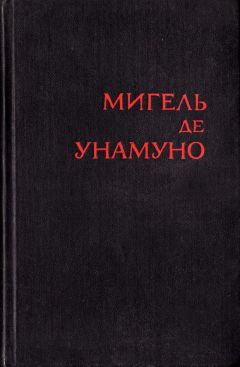Мигель Унамуно - Мигель де Унамуно. Туман. Авель Санчес_Валье-Инклан Р. Тиран Бандерас_Бароха П. Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро
— Я верю, что она так не думает.
— Потом… потом она поручила мне выяснить как можно дипломатичнее…
— Дипломатичнее всего, сеньора, говорить без дипломатии, особенно со мной.
— Потом она мне поручила выяснить, не обидит ли вас, если она примет без всяких обязательств ваш подарок, то есть ее собственный дом.
— Как без обязательств?
— Ну, если она примет подарок, как подарок.
— Но если я делаю ей подарок, как же еще она может принять его?
— Эухения и говорит: она, мол, готова принять его, чтобы показать свое хорошее отношение и искренность своего раскаяния, но она хочет принять ваш щедрый подарок так, чтобы под этим не подразумевалось…
— Довольно, сеньора, довольно! Мне кажется, она, сама того не желая, снова оскорбляет меня.
— Простите, это невольно.
— Бывают случаи, когда самые страшные оскорбления наносят именно, как говорится, невольно.
— Не понимаю.
— Однако это совершенно ясно. Как-то я пришел в гости, и один из присутствующих, мой знакомый, даже не поздоровался со мной. Выходя, я пожаловался одному другу, и он мне сказал: «Не обижайтесь, он сделал это не нарочно, он просто не заметил вас». Я ему ответил: «Так в этом и заключается его грубость: не в том, что он не поздоровался со мной, а в том, что он не заметил моего присутствия». — «Это произошло невольно, он человек рассеянный…» — говорит мне приятель. А я ему: «Самые отвратительные грубости — это те, которые называют невольными, и нет большего хамства, чем рассеянность в присутствии других людей». Это напоминает мне, сеньора, так называемую невольную забывчивость, как будто можно что-то забыть добровольно. Обычно невольная забывчивость — просто грубость.
— Но зачем вы это говорите?
— А затем, донья Эрмелинда, что после просьбы Эухении простить ее за неумышленное оскорбление, будто я подарком задумал купить ее, вынудив к благодарности, после этого я не знаю, зачем она принимает мой подарок, да еще подчеркивая, что принимает без обязательств. О каких обязательствах речь, о каких?
— Не горячитесь так, дон Аугусто!
— Да как же мне не горячиться, сеньора! Эта девчонка вздумала шутить со мной, решила, что я для нее игрушка! — При этих словах он вспомнил Росарио.
— Ради бога, дон Аугусто, ради бога!..
— Я уже сказал, закладная уничтожена, и если она не берет свой дом, то и я не имею к дому никакого отношения. Благодарна она мне или нет, мне все равно!
— Ну, дои Аугусто, зачем вы так! Она ведь желает только помириться с вами, чтобы вы снова стали друзьями!
— Конечно, теперь, когда она порвала с другим, не так ли? Раньше я был другим; теперь я — первый, не так ли? Теперь она хочет поймать меня?
— Разве я говорила вам что-нибудь подобное!
— Нет, но я догадываюсь.
— Ну, так вы полностью ошибаетесь. Когда моя племянница сказала мне все, что я сейчас вам передала, я ей стала давать советы, стала внушать ей, раз уж она порвала со своим прощелыгой женихом, постараться завоевать вас, ну, вы меня понимаете.
— Да, снова завладеть моим сердцем.
— Именно! Так вот она в ответ мне сто раз повторила: «Нет, нет и нет». Она, мол, вас очень ценит и уважает как друга, и только как друга, но как муж вы ей не подходите, и она, мол, выйдет замуж только за человека, которого полюбит.
— А меня она полюбить не сможет, не так ли?
— Нет, такого она не говорила.
— Думаю, что говорила, и это тоже дипломатия.
— Как так?
— Да, да, вы пришли не только затем, чтоб я простил эту девушку, но еще и проверить, согласен ли я снова просить ее руки, не так ли? Вы уладите это дело, и она смирится.
— Клянусь вам, доп Аугусто, клянусь вам священной памятью моей покойной матери, клянусь вам…
— Вспомните заповедь: не клянись…
— А я клянусь, что вы сейчас забываете, — невольно, конечно, — кто я такая, кто такая Эрмелинда Руис-и-Руис.
— Если бы все было так, как вы говорите…
— Да, это так, именно так. — Она произнесла эти слова таким тоном, что сомнения были неуместны.
— Ну, тогда… тогда… скажите своей племяннице, что я удовлетворен ее объяснениями и глубоко за них благодарен, что я по-прежнему буду ей другом, верным и преданным другом, но только другом и ничем больше, только другом… И не стоит говорить ей, что я не фортепьяно, на котором можно играть, что вздумается; что я не из тех мужчин, которых сегодня берут, а завтра бросают; что я — не заместитель и не вице-жених; что я не блюдо второго сорта…
— Не горячитесь так!
— Да я вовсе не горячусь! Так вот, я по-прежнему ее друг…
— И вскоре придете нас навестить?
— Не знаю.
— Но если вы не придете, бедняжка мне не поверит и будет огорчена.
— Я, видите ли, намерен предпринять долгое и далекое путешествие.
— Но прежде вы придете проститься?
— Посмотрим.
Они расстались. Когда донья Эрмелинда, придя домой, передала племяннице свой разговор с Аугусто, Эухения сказала про себя: «Там появилась другая, нет сомнений; теперь я должна завоевать его снова».
Аугусто, в свою очередь, оставшись один и расхаживая по комнате, говорил себе: «Она хочет мною играть, для нее я как фортепьяно. Бросает, берет, потом снова бросит… Меня держали про запас. Что там ни говори, она хочет, чтобы я снова сделал ей предложение — может быть, чтобы отомстить или чтобы тот, другой, ее приревновал и вернулся… Как будто я кукла, игрушка, дон Никто… А у меня есть свой характер, да, есть, я — это я! Да, я — это я! Я — это я! Я обязан Эухении, — не могу отрицать, — она пробудила во мне способность к любви; но раз она ее пробудила и оживила, теперь Эухения мне больше не нужна, женщин более чем достаточно.
Тут он не мог сдержать улыбки: ему вспомнились слова Виктора, сказанные их другу Хервасио, когда тот после свадьбы объявил, что едет с женой в Париж. «Ехать в Париж, — сказал Виктор, — с женой? Да это все равно что везти треску в Шотландию!» Аугусто тогда от души смеялся.
И он продолжал: «Женщин более чем достаточно. Сколько очарования в коварной невинности, в невинном коварстве Росарио, этого нового издания вечной Евы! Очаровательная девочка! Эухения низвела меня от абстрактного к конкретному, эта же привела к родовому, а кругом столько соблазнительных женщин… Столько Эухений! Столько Росарио! Нет, нет, мною никто играть не будет, особенно женщина. Я — это я! Пусть у меня маленькая душа, но она моя!» И, чувствуя, как это его «я» возбуждается и словно разбухает все больше и больше, так что в доме ему уже тесно, Аугусто вышел на улицу, где этому «я» будет просторней и вольготней.
Едва он сделал первые шаги на улице, увидел небо над головой, увидел прохожих, — все шли по своим делам, не замечая его, конечно, без умысла, и не обращая на него внимания просто потому, что не были с ним знакомы, — Аугусто почувствовал, что его «я», то самое «я» в горделивом «я — это я!», стало уменьшаться, уменьшаться и снова уместилось в его теле и даже внутри тела стало искать уголок, где бы спрятаться, чтоб его никто не видел. Улица казалась ему кинематографом, а он сам чувствовал себя тенью на экране, каким-то призраком. Погружение в толпу, затерянность в массе людей, которые двигались, ничего не зная о нем и не замечая его, всегда действовали на него так же, как приобщение к природе под открытым небом на вольном ветру.
Только наедине он ощущал себя, только наедине он мог говорить себе, быть может, чтобы себя убедить: «Я — это я!» Среди людей, затерянный в озабоченной или веселящейся толпе, он терял ощущение самого себя.
Так пришел Аугусто в укромный садик на пустынной площади того удаленного от центра района, где он жил. Площадь эта была спокойной заводью, где всегда играли дети; там не громыхали трамваи, не мчались автомобили; какие-то старички приходили погреться на солнце приятными осенними днями, когда листья с дюжины индийских каштанов, росших здесь за решеткой, кружились, гонимые северным ветром, по плитам мостовой или покрывали сиденья деревянных скамеек, как обычно, выкрашенных в зеленый цвет, цвет молодой листвы. Эти ухоженные городские деревья, посаженные в правильном порядке, получавшие воду, если не было дождя, в определенные часы из оросительной канавки и протянувшие свои корни под плитами мостовой; эти деревья-пленники, вынужденные ждать, когда солнце взойдет над крышами домов, а потом спрячется, эти деревья-узники, скучавшие, наверное, по родному лесу, притягивали его с таинственной силой. В их кронах пели птицы, тоже городские, приученные улетать от детишек и опасливо приближаться к старикам, которые бросают им хлебные крошки.
Сколько раз, сидя в одиночестве на зеленой скамейке посреди маленькой площади, он видел пожар заката над крышами, а иногда в огненном золоте багряного света темнел силуэт черной кошки на трубе соседнего дома! Теперь была осень, осыпались листья, желтые, лапчатые, как листья винограда, похожие на засохшие, сплющенные кисти мумии, они падали на клумбы в центре площади, на дорожки и цветочные горшки. И дети играли среди сухих листьев, собирая их в охапки и не замечая пылающего заката.