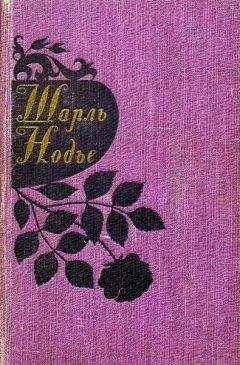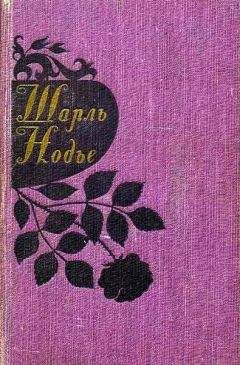Сатанинская трилогия - Рамю Шарль Фердинанд
И вот внутрь проникает уже целый мир, и так хорошо, а потом…
Он говорит себе: «А вдруг это правда?!»
Это случилось именно теперь. Он вспомнил о новостях, что прочел в журнале. И внезапно почувствовал саму жизнь, но в то же время рядом оказалась и смерть, которой он еще не знал, поскольку не знал и жизни.
Одна без другой не приходит. Приходит одна, приходит и вторая. Та еще не пришла, поэтому нет и этой.
Он сел на кровати.
В воображении вокруг простирались невероятные просторы, они только что зародились и в то же самое время были разрушены…
Он никогда об этом не думал, он до сих пор так и не понял, что у нас есть все и нет ничего. У нас ничего нет, потому что у нас есть все.
Напрасно он пытается об этом не думать, откинувшись назад и положив голову на руку, как готовящийся ко сну ребенок.
Он не мог спать. Он сел, снова лег.
Опять поднялся, включил свет, потушил, сел, обхватил руками голову…
Вдруг удивился: в просветах меж пальцами уже видна заря, на улице вовсю поют птицы.
7
Сегодня я снова буду сидеть за столом. Так долго, сколько смогу. Стол из ореха, неполированный, без ящиков, небольшой; он из сырого дерева, ножки плотно сколочены, в ширину почти такой же, что в длину, почти квадратный; я буду сидеть за ним, прижавшись к столешнице, будто к самой жизни, и смотреть.
Смотреть, что происходит, и писать лишь о том, что происходит на самом деле. О том, что видно в распахнутое окно меж железных прутьев, комната на первом этаже; виден лишь край луга, справа увитая плющом стена; подальше — бузина, колыхавшаяся, будто маленькое море, когда дул ветер; сарай с черепичной крышей; слева три больших тополя.
В этот самый момент передо мной все то же: все тот же уголок сада.
Когда медный чайник на спиртовке принимается петь, говоришь лишь о том, что творится на самом деле. Фарфоровый фильтр готов, кофейные зерна смолоты, из металлической коробочки взята еще горсть, зерна высыпаны в мельницу, зажатую меж коленок, крутится ручка. И вот слышится шум падающих капель, — отчетливо, вокруг полная тишина, — словно бьют настенные часики.
Сидеть за столом, не двигаясь, писать лишь то, что видишь.
Этим утром, как всегда, видишь озеро, которое, правда, почти полностью спрятано за окаемкой плоского яруса, на котором стоит дом, горы тоже почти скрыты деревьями. Писать лишь то, что видишь. Видишь лишь то, что все это очень красиво, все совершенно спокойно. Вначале слышались только звуки падающих капель, затем раздался птичий крик, птица умолкла, звучит голос соседки, вышедшей на балкон.
Вновь окунаю перо в чернильницу. Я буду жить еще какое-то время. Я смотрю, сколько хватает сил. Вещи, я смотрю на вас, я вижу вас. Две, три, четыре, я пытаюсь вас сосчитать. Когда счет закончится? Сколько вас? Кто вы такие? Зачем вы? Снова пробило восемь, Бессон — извозчик — беспрестанно бранясь и болтая, запрягает лошадь возле сарая, гремит о мостовую ведром. Как и каждое утро, слышен его громкий голос, шарканье сандалий. Громкий голос, шарканье сандалий на деревянной подошве, и время, проходит время… Голова Бессона показывается за малинником. На голове соломенная шляпа, лицо в профиль. Бессон спускается по трем ступенькам, трижды встряхивая головой, вот он анфас. Подошел ближе. Перед ним лошадь. Он уже на сиденье. Меж тополями и туями покачивается обшитый бахромой кремовый зонтик. На сливовом дереве еще остались плоды, Бессон кнутом сшибает себе один.
Слива падает на зонтик. Идет время. Писать лишь о том, что видишь. Тихо наблюдать за тем, что творится. Все проходит перед нами, все идет своим чередом, ветви то подымаются, то опускаются, и с каждой секундой цветок раскрывается все больше, хотя никто об этом не знает, листок колышется, крутится на стебельке, показывая временами обратную сторону, и по-прежнему сочится вода из фильтра.
Снова упала капля, отмеряя время, будто маленькие настенные часики, которые почти опустели, постепенно высвободив все, что в них заключалось…
За выкрашенной серым дощатой калиткой двора едет трамвай. Я сажусь в него. Прохожу в переднюю часть вагона, где висит табличка: «Разговаривать с вагоновожатым запрещено». Он сидит прямо под ней. И все с ним разговаривают. Окошки распахнуты, чтобы шел воздух. Возле меня два-три человека. Один говорит:
— На десять лет раньше, на десять лет позже…
И пожимает плечами.
Другой спрашивает:
— Сколько тебе лет?
— Пятьдесят три.
И тишина. Через какое-то время кто-то заговаривает опять:
— Десять лет не так уж и мало!
Это вагоновожатый. Он обернулся.
Невысокий человечек в сером пиджаке, худой, бледный, с гнилыми зубами, у которого есть лишь его жизнь, обернулся: для него десять лет — это довольно много.
Ему отвечают:
— Ну, а чего ты хочешь?
Умудренные, они начинают перебрасываться словами, трамвай проезжает под деревом, под другим, опять под деревом вдоль проводов, и один говорит:
— Разница только в том, что уйдем все вместе, а не поодиночке.
— Может, так даже лучше, кто знает?
Он улыбается, держа во рту затухающую коротенькую трубку, отводя руку назад и берясь за железную перекладину, преграждающую вход в трамвай. От того ли слова их мудры, что они прожили долгую жизнь?
Тот, что курит трубку, улыбается, пожимает плечами…
И вдруг становится видно, что перед вокзалом полно народа. У дверей касс непрерывно останавливаются автомобили, на которых громоздится багаж, вдвое больше самих машин. Гудок поезда взвивается выше свода центрального павильона, откуда падает, словно внезапно прервали струю воды. Время утренних скорых поездов: до Симплона, до Бернского Оберланда. Можно подумать, люди бегут в горы. Почтальоны, как всегда, стоят группкой на площади, держа на руках перевязанные стопки газет, доходящие до самого подбородка. Они заходят в трамвай, человек десять. И последний, извиняясь за неудобства:
— Надо было видеть эти поезда! Люди дрались за места. Народ стоял даже на ступеньках!.. Трамвай отправился дальше. Разговор продолжился. Дребезжание трамвая, автомобили, грузовики, улицы. И самый старый из почтальонов, пузатый толстяк, с которого пот тек ручьями, капая с густых бровей:
— Говорят, каждый день будет на градус жарче…
— Да-да.
— Сегодня 39°, завтра 40°, 41°… 50°… 100°… Черт побери!
«Разговаривать с вагоновожатым запрещено!» — когда никто с ним не говорит, он заговаривает с вами сам.
Пока трамвай поднимается по широкой прямой улице, он опять поворачивается, демонстрируя черные усики на лице цвета золы:
— Где вы такое вычитали?.. Черт вас возьми!
И резко ударяет каблуком по рычагу.
Люди расстегивают пиджаки, надетые поверх хлопчатобумажных фланелевых рубашек, наполовину расстегнутых, демонстрирующих шею и грудь. Кто-то сдвигает кепку. И люди, будто виноградная гроздь, то подаются вперед, то откидываются назад в зависимости от того, как идет трамвай, один смеется, другой курит трубку, и снова человек с трубкой:
— Хорошая будет компания! — Он улыбается.
И все видят, что возле национального банка уже выстроилось полицейское оцепление.
8
Еще все видели, что пришел расклейщик афиш. Лист бумаги с напечатанным черным по белому текстом был сложен вчетверо в переднем кармане халата.
У него было ведерко с клеем. Справа была заклеена нога заклинательницы змей, слева — заголовок пьесы, которую собирался дать гастролирующий театр: порядок никого более не волновал. Развернув бумагу, мужчина приклеил ее с двух сторон и прошелся поверх щеткой.
Подошли люди, принялись читать. Это было воззвание Государственного совета. Правительство взывало к благоразумию граждан. Но то, что должно людей успокаивать, лишь сеет меж ними тревогу. В воображении возникают образы. И все, что предстает взору, под эти образы неминуемо подстраивается. Зарождается смутное опасение, и оно только растет. И вот оно уже заставляет вас иначе смотреть на вещи, у вас меняется цвет лица, на нем написано опасение, оно передается тому, с кем вы только что виделись. Однако ни над крышами, ни на восьми стенах колокольни, ни там, где колышется в воздухе взвесь из солнечного света, черных пятен ветвей и пыли, пока ничего не заметно. Это происходит в сердце, в первом услышавшем сердце. В голове с коротко остриженными или длинными волосами, то есть там, где есть разум, понимание, что у всего есть начало и конец. Так что же, это конец?!