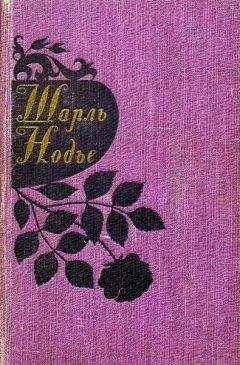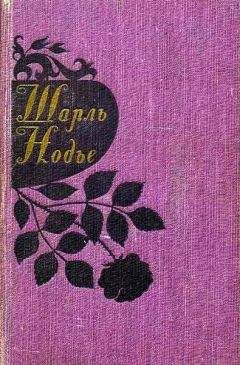Сатанинская трилогия - Рамю Шарль Фердинанд
Они смотрели, как идут отряды драгун на больших лошадях, красивые деревенские парни с раскрасневшимися лицами под киверами с никелированными цепочками, с подвешенными у седла мушкетонами и патронташем на бандульерах, или едет в грузовых автомобилях, стоя навытяжку, пехота в выкрашенных серым стальных касках, — как во времена греков, — думает преподаватель коллежа, — как в песнях Гомера, как при осаде Трои, — решительно, наше общество стойко держится. Все аплодируют, мужчины бросают шляпы, женщины машут руками средь глухого гула широких армированных шин, широких шин из резины и кожи, в которых посверкивали заклепки.
С площади улетели все голуби.
Головы в касках еще раз показались возле фонтана у церкви, где росли шарлаховые герани и возвышалась колонна, головы вдруг показались из тени, попав в поток света, который силятся превозмочь глаза, пытаются отыскать, откуда он льется, и оказываются бессильны…
Сегодня 43° под пылающим небом, от которого стараются скрыться больше, чем когда-либо, на всех дорогах, спускающихся к озеру, бесконечные толпы купальщиков.
Некоторые, сразу раздевшись, бегут к трамплину и прыгают вниз головой. Громкий плеск, во все стороны брызги, круги по воде.
Многочисленные головы на воде, словно поплавки в местах, где помельче или, наоборот, глубже.
Есть места совершенно спокойные, и такие, где неизвестно, по какой причине (ведь нет ветра), вода кипит и клокочет, словно масло на сковородке.
Из-за жары и отсутствия волн разрослись водоросли. Вот это озеро, возле города, сюда приходит солнце и пьет, потягивает воду, и теперь видно, как много стало стебельков, поднимающихся со дна, словно высокий лес, где путается неосторожный купальщик. Никогда не было такой засухи и, тем не менее, никогда не было столько воды. Никогда, как говорят рыболовы всякого сорта, — удильщики, ловцы сетью, лодочники, — никогда, испокон века. В самом начале все видели, как скоро вода отступает, пускаясь в обратный путь, уходя на множество футов от пологого песчаного берега, широкие просторы которого оказались оголенными, — так было вначале. Затем все увидели, что вода поднимается, начался тихий, незаметный прилив. Вода вновь омывала оставленные было высокие набережные, накрыла широкую песчаную кайму, с которой схлынула прежде, и та затвердела, будто цемент, вода пошла дальше, достигнув дороги вдоль берега, кустов акации, полого тальника, вливаясь в дупла, поднимаясь, все поднимаясь — до каких же пор? И что такое с луной? Все спрашивали себя. А потом вдруг поняли. Это солнце, оно не только берет, но и дает. В одном месте берет, в другом дает. Оно забирает и оно одаривает. Произошедшее означало, что оно, в конце концов, принесло больше, чем взяло, благодаря невероятному количеству истаявших ледников и воде Роны, взбухшей, вздувшейся, выпроставшейся из берегов, как молоко. Это был не прилив, а паводок, целая гора обрушилась вниз потоками. До каких же пор будет оно подыматься? — спрашивали себя на кораблях рыболовы, чьи силуэты виделись против света один подле другого, словно значки телеграфного алфавита.
Вот берег озера. Будем описывать то, что есть. Напишем лишь то, что есть в самом деле. Вот рыболовецкие суда, невдалеке — выкрашенные в коричневый огромные доки верфей у площади Навигации с черными и белыми трубами поверх крыш на фоне гор цвета оберточной бумаги. Выше — сельские рабочие на орошаемом лугу с рыжей лошадью, тянущей морду к сточной канаве, под деревом лежит человек, скрестивший на груди руки, будто покойник. Полно мух. Двери некоторых амбаров выкрашены в красный. Дорогу, словно стена, преграждает густой запах навоза. Еще выше виллы, начинается город. Со всех сторон он рассыпает перед вами цепочки сдаваемого в аренду жилья, вскоре дома уже плотно лепятся друг к другу, встают тесными рядами. О расположении вокзала можно узнать по столбам дыма, еще выше виднеются здания почты и банков.
Так жарко, что вперед едва продвигаешься. Редкие прохожие, попадающиеся навстречу, встают под деревьями, снимают шляпы, достают платки. Детей не видно, они по домам, в коридорах. На Вокзальной площади составили в козлы винтовки. Идешь выше. Внезапно слышится барабанная дробь.
На площади святого Франсуа [11] в тот же день, к вечеру. Выглядит все так, будто они продолжают веселье, кажется, это лишь еще одна новая забава, еще один способ убить время. Они устроили шествие, впереди барабанщики. Затем совершенно пьяные мужчины, кричащие женщины. Мужчины подставляют друг другу плечи, чтоб не свалиться. Из магазинчиков на улицу вышли девушки. Многие выстроились в ряды.
С противоположной стороны площади быстрым шагом выступает патруль.
Идут под руки. Продолжается послеполуденная прогулка, разве что все вышли за пределы своих кварталов, идут взглянуть, что происходит в других местах, — все же какой-то прогресс.
Запели «Интернационал».
Рассказывают, что начались эпидемии [12]. Больницы переполнены. Прохожие падают на улицах замертво.
12
Она принарядилась, причесалась так, как ему нравилось.
Накрыла на стол, достав сервиз голубого фарфора с пейзажами, будто ждали гостей.
В вазе стояли цветы, на блюде лежали фрукты. Среди них были и такие, что в этом году поспели раньше обычного: яблоки, груши, светлая и темная смоква.
Он пришел, как и всегда, вечером. Обычный, как и всегда. Все было привычно. Они сели друг против друга, начали есть. В окно виднелся красивый закат за деревьями. Стемнело, они зажгли лампу. Ужин, как в любой другой день. Вечером, вместе, как прежде, как каждый день, снова.
И вдруг он спрашивает себя: «Вместе?»
Он смотрит на нее, вот она и вот он, и их двое. Я, было, подумал, что ошибся.
Вдруг он понимает. О, ты! К которой я так стремился и все же так и не достиг. Ибо я искал единения, а нас двое.
Может, осталось уже не так много дней, а потом все будет кончено: она уйдет сама по себе, сам по себе уйду я. И пусть это будет в одно и то же время, в одном и том же месте, но она будет вне меня, а я буду вне ее. Нас возьму по отдельности, одного и другого. Он представляет себе, как это будет. Ему кажется, что он видит ее в первый раз. То, что было сокрыто, проявилось; то, что было поверх, исчезает, показывая, что было внутри; то, что было поверх, — всего лишь плоть, и плоть исчезает. Ту, что здесь, разденут дважды; ту, что не станет мной; ту, что мной не была…
В вечерней тиши бесшумно прилетели мотыльки с мельчайшей серой пылью на крылышках. Стали биться о разрисованный бумажный абажур, падали на скатерть. Чувствовалось, что творится что-то невероятное. Чувствовался запах жарких стен, запах кремня, который оставлял на губах свой вкус. Слышалось, как потрескивает в саду: земля ссыхалась, словно во множестве средоточий, как мускулы, каждый из которых скрепляется с остальной плотью в строго определенном месте. Внезапно под тяжестью черепицы начинали играть балки. Она мне солгала, она мне лжет, лжет всем своим существом, не зная об этом, и лишь потому, что существует, лишь потому, что она есть.
Внезапно все радостное и приносящее счастье, все нежное, опрятное, гладкое, все расцвеченное невероятными оттенками, составленное из искусных линии и разнообразных форм, — все оказалось на краткий миг здесь, как расстеленная на столе скатерть, как поставленные в вазу цветы, как надетая по случаю праздника одежда, которую все-таки однажды придется снять.
Она солгала мне, я сам себе лгал, все вокруг лгало. Любовь лжет. О, моя дорогая возлюбленная! Нас разделяют расстояния, разделяют пространство и время, и пространства эти все больше, время это все больше. Он видит, как она удаляется: так удаляется лодка, становящаяся все меньше и меньше, очертания ее стираются, она все менее различима, превращается в темную точку, и потом — в ничто…
Но внезапно, опомнившись: «О, нет! Это невозможно!.. Ты не лжешь, ты не можешь лгать, любовь не может лгать, прости меня!»