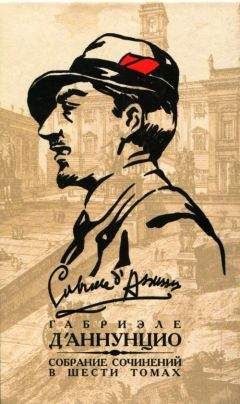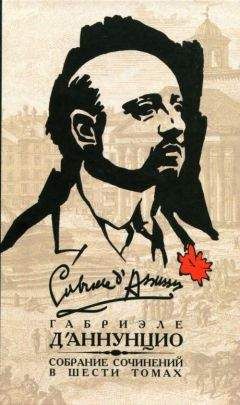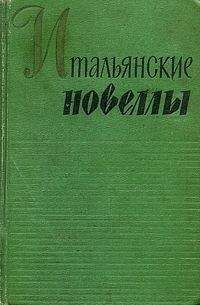Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
Мать сказала: «Невозможно ошибиться в этом. До последних двух-трех дней Джулианна отрицала, по крайней мере, говорила, что она в этом не уверена… Зная твою мнительность, она просила меня ничего тебе не говорить…»
Истина не могла быть более очевидной. Итак, отныне все было несомненным!
Я вошел в альков, я приблизился к кровати. Занавеси упали за мной; свет стал более слабым! Страх отнял у меня дыхание, и вся моя кровь остановилась в жилах, когда я подошел к изголовью и наклонился, чтобы ближе разглядеть голову Джулианны, почти скрытую одеялом. Я не знаю, что случилось бы, если бы в этот момент она подняла голову и заговорила.
Спала ли она?
Только ее лоб до бровей был открыт.
Я стоял несколько минут в ожидании. Но спала ли она? Она не шевелилась, лежа на боку. Рот был закрыт простыней, дыхания не было слышно. Один лишь лоб до бровей был открыт.
Как должен был я держать себя, если бы она заметила мое присутствие. Час был плохо выбран для расспросов и объяснений. Если бы она подозревала, что я все знаю, на какую крайность она могла бы решиться в эту ночь? Значит, я был бы вынужден напустить на себя наивную нежность, я должен был бы притворяться, что ничего не знаю, и продолжать выражать то чувство, которое четыре часа тому назад, в Сиреневой Вилле, диктовало мне самые нежные слова. «Сегодня вечером, сегодня вечером в твоей кровати… Ты увидишь, как я сумею приласкать тебя… я усыплю тебя. Всю ночь ты будешь спать на моей груди».
Окинув комнату растерянным взглядом, я увидел на ковре маленькие блестящие туфельки, а на спинке кресла длинные серые шелковые чулки, атласные подвязки и еще один предмет интимного туалета, все эти предметы, которыми наслаждались глаза любовника в недавней близости. И чувственная ревность поразила меня с такой силой, что было чудо, что я удержался от того, чтобы не наброситься на Джулианну, не разбудить ее, не крикнуть ей бессмысленные, грубые слова, внушаемые мне этим неожиданным бешенством.
Я отошел, шатаясь, и вышел из алькова. Я думал с слепым ужасом: «Чем это кончится?» Я собирался уходить. «Я спущусь вниз, скажу матери, что Джулианна спит, что сон ее спокоен; я скажу ей, что тоже нуждаюсь в покое».
— Я удалюсь в свои комнаты. А завтра утром… — Но я оставался пораженный на месте, точно я не мог перешагнуть порог, страх охватывал меня. Я обернулся к алькову резким движением, как будто я почувствовал на себе взгляд.
Мне показалось, что драпировки колебались; но это было обманом. Тем не менее что-то вроде магнетической волны сквозь драпировку проникало в меня, что-то такое, против чего я был бессилен.
Я вошел в альков вторично, весь дрожа.
Джулианна лежала все в том же положении. Спала ли она?
Один лишь лоб был открыт до бровей.
Я сел у изголовья и ждал.
Я смотрел на этот лоб, бледный, как простыня, белый и чистый, как частичка святой облатки, этот сестрин лоб, который столько раз благоговейно целовали мои губы, который столько раз целовали губы моей матери.
На нем не было видно следов осквернения; на вид он был все таким же, как прежде. Но отныне ничего на свете не сможет смыть пятна, которое видят глаза моей души в этой белизне.
Некоторые слова, произнесенные мной в экстазе опьянения пришли мне на память: «Я буду бодрствовать, я буду читать на твоем лице сны, которые тебе приснятся». И потом я еще вспомнил. Она повторяла ежеминутно: «Да, да».
Я спросил самого себя: «Какова ее жизнь, что она внутренне переживает? Каковы ее планы? На что она решилась?» И я смотрел на ее лоб. И я больше не думал о своем горе; но я сосредоточил все свои силы, чтобы понять ее горе.
Конечно, ее отчаяние должно было быть нечеловеческим; бесконечным, безграничным. Мое наказание было и ее наказанием, и может быть, для нее оно было еще более ужасным. Там, в Вилле Сиреней, в аллее, на скамейке, в доме, она, конечно, почувствовала правду в моих словах, она, конечно, прочла правду на моем лице. Она поверила моей безграничной любви.
… «Ты была в моем доме в то время, как я искал тебя вдали. О! скажи мне, разве это признание не стоит всех твоих слез? Разве ты не хотела бы пролить их еще, еще больше за такое доказательство?
— Да, еще больше!..»
Вот что она ответила мне со вздохом, который, право показался мне божественным: «Да, еще больше!..»
Она хотела бы пролить еще другие слезы, она хотела бы перенести еще другое страдание за такое признание! И в то время, как она видела у своих ног, в порыве страсти, человека, так долго оплакиваемого и потерянного, она чувствовала себя обесчещенной, у нее было физическое ощущение своей обесчещенности, она держала мою голову на животе, оплодотворенном семенем другого! Ах, как ее слезы не поранили мне лица? Как мог я пить их и не отравиться ими?
Я пережил весь этот день в одно мгновение. Я снова увидел все выражения, даже самые мимолетные, появившиеся на лице Джулианны после нашего приезда в Виллу Сиреней, я понял их все. Все стало ясным.
— О, когда я говорил с ней о завтрашнем дне, когда я говорил ей о будущем!.. Какое страшное было для нее слово завтра, мною произнесенное!
И мне вспомнился короткий диалог, происшедший на пороге балкона, перед кипарисом. Она повторила шепотом, с легким вздохом: «умереть!» Она говорила о скором конце. Она спросила: «Чтобы ты сделал, если бы я вдруг умерла? Если бы, например, завтра я умерла бы?» А потом она в нашей комнате воскликнула, приближаясь ко мне: «Нет, нет, Туллио, не нужно говорить о будущем… думай о сегодняшнем дне, о настоящем часе!» Такие поступки, такие слова, разве они не выдавали принятого решения, трагического намерения? Было очевидно, что она решилась убить себя; она убьет себя, может быть, в эту самую ночь, до наступления завтрашнего дня, так как для нее не было другого выхода.
Когда ослаб ужас, порожденный мыслью о неминуемой опасности, я стал рассуждать так «Что было бы важнее — смерть Джулианны, или ее жизнь? Так как гибель неотвратима и пропасть бездонна, то немедленная катастрофа, может быть, предпочтительнее бесконечной длительности этой ужасной драмы?» И в моем воображении я присутствовал при фазисах этого нового материнства Джулианны, я видел новое созданное существо, непрошенного пришельца, который будет носить мое имя, который будет моим наследником, который завладеет ласками моей матери, моих дочерей, моего брата. «Разумеется, одна лишь смерть может прервать фатальный ход этих событий. Но самоубийство, останется ли оно втайне? При помощи какого средства Джулианна покончит с собой. Если будет доказано, что смерть была добровольная, что подумают мать и брат. Какой удар это будет для матери? А Мари? А Натали? И что стану я тогда делать со своей жизнью?»
По правде сказать, я не мог представить себе мою жизнь без Джулианны. Я любил это бедное существо даже и обесчещенное. Кроме того неожиданного приступа гнева, вызванного приступом ревности, я не испытывал по отношению к ней ни чувства ненависти, ни презрения. Во мне ни разу не промелькнула мысль о мести. Наоборот, я испытывал по отношению к ней глубокое сострадание. Я брал на себя с самого начала всю ответственность за ее падение. Гордое и великодушное чувство поддерживало меня: «Она умела склонять свою голову под моими ударами, она умела страдать, она умела молчать; она показала мне пример мужества, геройского самоотречения. Теперь наступил и мой черед. Я должен отплатить ей тем же. Я должен спасти ее во что бы то ни стало». И этот душевный подъем, этот добрый порыв вызывала во мне она.
Я посмотрел близко на нее. Она оставалась неподвижной все в той же позе, с открытым лбом. Я подумал: «Не спит ли она? Что если она только притворяется спящей, чтобы отклонить всякое подозрение, чтобы убедить, что она спокойна, чтобы ее оставили одну? Разумеется, если ее план заключается в том, чтобы не дожить до завтрашнего дня, то она ищет всяких способов, чтобы привести его в исполнение. Она притворяется спящей. Если бы она действительно спала, ее сон не был бы таким спокойным, таким ровным, у ней ведь нервы так возбуждены. Я разбужу ее…» Но я колебался. Если, действительно, она спит? Порой, после большой затраты нервных сил, несмотря на сильнейшее нравственное беспокойство, спишь как убитый, точно в обмороке. О, хотя бы этот сон мог продлиться до завтрашнего дня! А завтра она встала бы с восстановленными силами и достаточно окрепшей, чтобы перенести необходимое между нами объяснение! Я смотрел пристально на этот бледный, как простыня, лоб и, наклонившись еще больше, я заметил, что он становился влажным. Капли пота выступили около бровей. И эта капля заставила меня вспомнить холодный пот, сопровождающий действие наркотических ядов. Во мне вдруг блеснуло подозрение. «Морфий!» И инстинктивно мой взгляд бросился к ночному столику, стоящему у изголовья, точно искал склянки, отмеченной маленьким черным черепом, известным символом смерти.