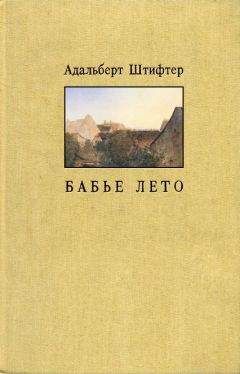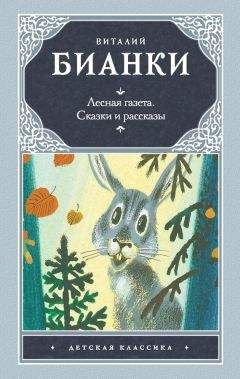Адальберт Штифтер - Лесная тропа
Готлиб, следуя моим предписаниям, исправно лечился водой. Спустя некоторое время я сказал ему:
— Нечего тебе таскаться по домам и кушать, что придется, тут могут дать и такое, что все лечение — и водой и лекарством — насмарку пойдет. Приходи ко мне каждый день, будешь полностью у меня столоваться.
Готлиб горячо поблагодарил меня и стал захаживать ежедневно. Есть ему носили в чуланчик рядом с кухней, он предназначался для второй служанки, буде такая понадобится. Мы поставили ему сколоченный плотником столик и стул, и мои люди приносили ему прописанные мною кушания. С этих пор он быстро пошел на поправку.
С приближением осени я сказал Готлибу:
— Тебе, поди, уже холодно спать на сене. Я подыщу для тебя местечко в доме.
У нас было теперь достаточно комнат, они поспевали одна за другой, а жильцов раз-два, и обчелся. Я остановил свой выбор на каморке, которую покрасили прошлой осенью. Она выходила во двор по левую руку от ворот и была отделена от всего дома, так как единственная сообщавшаяся с ней по плану светелка, выходившая в сад, не была еще готова. Я задумал украсить светелку поперечными балками и резьбой, покамест же в ней хранились доски и плахи и были набросаны кучи земли. Старуха экономка набила соломой сенник, достала кое-что из запасного белья и приготовила удобное ложе. Кровать для нового постояльца мы сбили из досок, а столик и стул перенесли из чулана, где мальчик обедал. Здесь-то и находился Готлиб в те часы, когда не гулял по окрестности, как я ему наказывал. Примерно к Михайлову дню, когда завернули холода, я посоветовал ему прекратить лечение водой, а также прием лекарств до будущей весны. Я считал, что паренек совсем поправился. Язвы на шее и затылке затянулись, от них не осталось и следа, глаза прояснились и блестели, на щеках играл румянец. Отец его дважды за это время спускался вниз. Поздней осенью, когда снесли старую хижину, он снова появился, чтобы забрать мальца. Однако я боялся, как бы Готлиб не стал в Астунге есть все без разбору и не повредил себе, — пусть лучше у меня перезимует; мы последим, чтобы он собрал оставленные плотником щепки и отходы, — пусть топит свою зеленую печурку, сколько понадобится. Отец с радостью согласился, оба без конца благодарили. И потом, возвращаясь домой после рабочего дня, я часто видел, как Готлиб выкладывает свои дровишки, в особенности по той стене, что зимой открыта ветрам и вьюгам. Спустя некоторое время я поставил ему укладку, чтоб было где хранить новые рубашки и одежду, которую я ему справил.
Таким образом, людей у меня в доме прибавилось. Томас ходил за лошадьми — за каурым и обоими вороными, — шерсть у них и правда стала совсем черной и блестела, как полированный агат, оба жеребца томились в конюшне, гремели копытами, вставали на дыбы и срывали со стен все, что только можно было сорвать. Хотя зимой их каждый день на несколько часов выводили промять, такие скупые прогулки их, видимо, не удовлетворяли, да и не мудрено, ведь летом они чуть ли не все время гуляли на воле. Кроме ухода за лошадьми, Томас был отчасти занят по дому. Работник, прошлой зимой ходивший за коровами, перекопал мой будущий сад. На нем же лежала заготовка дров, а также все, что требовалось по плотничьей части, да и другая тяжелая работа. На его же попечении оставались коровы. Экономка Мария ведала кухней, бельем, одеждой, уборкой и тому подобными делами, я нанял ей в помощь двух служанок, одну из них мне в прошлому году удалось излечить от смертельной болезни.
Нам выпала небывало тяжелая зима. Даже глубокие старики не запомнят у нас таких снегопадов. А тут еще выдался месяц, когда снег шел денно и нощно, не переставая, порой при сильном ветре, а то и при безветрии — тогда он в полной тиши валил густыми хлопьями. Все это время мы света божьего не видели. Сидя в своей комнате с огнем, я только и слышал за окнами безостановочное шуршание, когда же наступал день, не видел за холмом, где была наша хижина, леса — все заслонила серая призрачная стена. В своем дворе и вокруг дома я различал только то, что рядом, вроде стоящего торчком затейливо укороченного столба, напялившего на себя снежный капор, или же белой пуховой перины там, где были свалены заготовленные летом бревна для будущей стройки. Когда снегопад кончился и над бесконечной белизной снова раскинулось ясное синее зимнее небо, в наступившей бездыханной тишине мы часто слышали, съезжая с горных склонов, оглушительный треск, — это в лесу наверху под тяжестью снега ломались и падали деревья. Люди, приходившие с той стороны, из-за горного хребта, говорили, что у подножья гор, где обычно текут прозрачные ручейки, навалило столько снегу, что ели вышиною в пятьдесят локтей лишь самой верхушкой торчат из сугробов. У меня теперь были в ходу легкие санки — к этому времени я обзавелся и такими, — они были длиннее, но зато много у́же старых. Эти, правда, часто опрокидывались, но зато легче переправлялись через лощины, образовавшиеся от наметенных сугробов. Я уже не рисковал ездить один, так как, несмотря на присущую мне силу и выносливость, во многих случаях не справился бы в одиночку. Да и больных у меня прибавилось. Я брал с собой Томаса, чтобы выручать друг друга в беде — на случай, если потеряем дорогу, если придется выводить каурого, завязшего по шею в сугробе или сами мы погрузнем в снегу, — чтобы один из нас мог остаться при лошади, покуда другой отправится за подмогой. К тому же после зарядившего снегопада ударили небывалые у нас морозы. Отчасти это было хорошо: глубокий снег так смерзся, что можно было по насту перебираться через овраги и другие труднопроходимые места; но холода имели и обратную сторону: усталый путник, не знающий местных условий, мог присесть отдохнуть и, вкушая блаженный покой, забыться сном, а потом его находили в той же позе — мертвым. Птицы замертво падали с деревьев; стоило вам подобрать такую птицу, хотя бы и сразу же после паденья, и вы ощущали ее в руке шаром, ею можно было бросаться, точно камнем. Уж на что вороные были полны жизни и огня, но если на них с дерева сваливался снежный ком, он так и не таял и только в теплой конюшне растекался по спине. Когда коней выводили, я иной раз замечал, что их провожает Готлиб, да и потом он следовал за ними, куда бы их ни повели, но меня это но беспокоило, холод был ему не страшен, его защищала теплая шуба, перешитая из моей старой. Я часто сходил вниз, к моим домочадцам, присмотреть за порядком, проверить, не вышли ли у них дрова и достаточно ли утеплены стены, — как бы ночью кого не продуло во сне, отчего недолго и заболеть. Я также присматривал за их столом — в такую стужу далеко не все равно, чем человек питается. Готлибу, который топил одной мелочью, я велел подбросить буковых полешек. Передавали, что в дубовой роще, наверху, раздался такой громовой удар, какого здесь еще не слыхали. Работник Берингера рассказывал, что одно из лучших деревьев раскололось от мороза снизу доверху, он сам его видел. Мы с Томасом, укутанные в шубы и в другие теплые вещи, скорее походили на два узла, чем на живых людей.
Эта зима, обещавшая принести много воды, кончилась самым неожиданным образом: боялись бед, а все обошлось на удивление благополучно. После тяжелых снегопадов на время сильных морозов установилась ясная погода с синим, безоблачным небом. На восходе солнца снег в сиянии зари курился сверкающим маревом, а ночами небо было необычно темное и звезд высыпало видимо-невидимо — не по нашим широтам. Такая погода держалась долго, но однажды в полдень мороз вдруг свалил, да так быстро, что в воздухе стало почти тепло, небо омрачилось, с южной стороны леса нагнало много облаков, — круглые, свинцово-синие, они плыли в белесой мгле, словно летом перед грозой, а до этого сорвался легкий ветерок, так что ели вздыхали и с них потоками лила вода. К вечеру заиндевелые, точно облитые сахарной глазурью, деревья стояли уже совсем черные на тусклом водянистом снегу. Мы ждали беды, и я наказал Томасу, чтобы все мои домашние установили между собой ночное дежурство и следили за прибылью воды, особенно имея в виду задние ворота, и в случае чего разбудили бы меня. Однако ночь прошла спокойно; проснувшись поутру, я увидел совсем не то, что ожидал увидеть. Ветерок улегся, было так тихо, что на ели, отстоявшей на ружейный выстрел от моего окна, рядом с любимой моей летней скамейкой, не шевелилась ни одна хвоинка, небо очистилось от сине-свинцовых туч, и оно высилось, неподвижное, аспидно-серое — такое однотонно серое, что на всем его огромном своде не было ни единого темного или светлого пятна. И тут на фоне чернеющего отверстия открытой двери сенного сарая я заметил сеющий мелкий, но густой дождик; однако видневшийся на всех предметах переливчатый блеск указывал не на тающий и растекающийся от дождя снег — нет, то было матовое поблескивание ледяной корки, покрывшей снежные сугробы. Одевшись и похлебав супу, я спустился во двор, где Томас уже готовил сани. И тут я понял, что за ночь поверхность снега снова схватило льдом, между тем как в верхних слоях неба сохранилось тепло, ибо по-прежнему моросил дождь, и не, в виде градин, а чистых, льющихся капель, и замерзал он лишь на земле, покрывая все предметы тонким слоем глянцевитой глазури, какой изнутри обливают глиняную посуду, чтобы жидкость не впитывалась в стенки. Во дворе ледяная корка вдребезги разлеталась под ногами, и это показывало, что дождь пошел только на рассвете. Я рассовал необходимое мне снаряжение по карманам саней и попросил Томаса еще до отъезда отвести каурого к нижнему кузнецу — проверить, не стерлись ли подковы, так как нам предстояло ехать по гололеду. Последнее обстоятельство, впрочем, не так смущало нас, как если б этот бесконечный снег превратился в воду. Тут я опять воротился к себе в комнату, которую так натопили, что хоть окна открывай, кое-что записал на память и стал обдумывать, как лучше распорядиться сегодняшним днем. В окно я увидел, что Томас повел каурого к кузнецу. Когда все устроилось, мы стали готовиться к отъезду. Я надел клеенчатый плащ и нахлобучил фетровый берет, с которого вода стекает, не задерживаясь, сел в сани и натянул повыше кожаный фартук. Томас накинул на плечи свой желтый плащ и примостился впереди. Мы двинули через Таугрунд — на небе и на земле было так же тихо и серо, как утром, — и, случайно остановившись, слышали, как сквозь хвою сеется дождь. Каурый не выносил бубенцов на упряжи и даже порой их пугался, и я после нескольких поездок предпочел их снять. Мне тоже надоедает их дурацкое бряцание, я предпочитаю во время езды слышать птичий гомон и лесные голоса или предаваться своим мыслям; меня утомляет однообразное бренчание, рассчитанное скорее на детей. Сегодня мне, правда, недоставало обычной тишины, какая бывает, когда сани беззвучно скользят по рассыпчатому снегу, словно по песку, и не слышно даже конского топота. Другое дело теперь: звон разбиваемого копытами хрупкого льда создавал непрерывный шум — тем более разительной казалась тишина, когда Томас останавливался, чтобы что-то подправить в ремнях упряжи. Шорох дождя в хвое только усиливал тишину. При следующей остановке услышали мы и нечто новое, скорее приятно отдававшееся в ушах. Крошечные сосульки, повисшие на тончайших хворостинках и на космах лишайников, затянувших стволы, обламывались, и мы различали то здесь, то там нежный звон и трепетное похрустывание — таинственные звуки, которые сразу же обрывались.