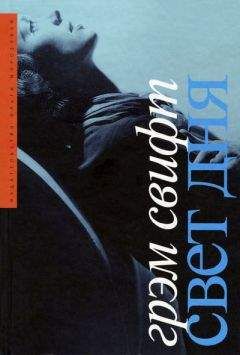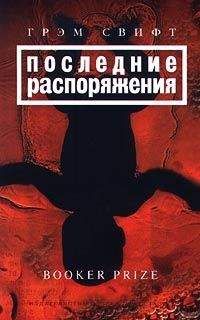Свифт Грэм - Свет дня
Она хочет знать такие вещи. До мелочей, до последней крошки. Жизнь снаружи – как будто я могу и за себя, и за нее. Блаженная повседневность. Запах хорошего кофе. Час ланча с его суетой. Толково приготовленный сандвич.
Это был хороший знак, когда она начала спрашивать (немножко в духе Элен): что я себе готовлю, что ем? Хороший знак, когда она сказала: «Здешняя еда – дерьмо».
Тут тоже, между прочим, неплохое место, чтобы сидеть и жевать сандвич. Скамейка у нагретой солнцем стены. Для этого, собственно, скамейки и существуют: присесть, перекусить. Но можно ли на кладбище, разрешено ли? Крошки – мертвецам.
Чего им больше всего не хватает – если они смотрят сюда? Ноябрьского солнца на опущенных веках, невесомого тепла? Вкуса свежего хлеба?
Боб мог бы сказать. Но как спросишь?
Пателю повезло. Тяжелые раны, долгое выздоровление, шрамы – но он выжил. Вот кто, считай, воскрес из мертвых.
Повезло? И да, и нет. Выжил, и поэтому в сторону отошло другое: никто не понес наказания. Закон предал Пателя. И в конце концов им с женой пришлось продать магазин – отчасти магазин, отчасти форт, факторию и форт на вражеской земле.
А он готов был заявить, что это точно был Дайсон. Успел увидеть.
Я допрашивал его, мистер Патель, он был у нас – но пришлось отпустить. Полицейская промашка. Нарушение норм. Неправомерные действия...
Я пошел его навестить. С большим букетом. Не удивился бы, если бы он в меня плюнул.
Полицейскому – расчет, Дайсону – свобода, Пателю – шрамы и ночные кошмары.
Так уж получилось, мистер Патель, что моя жизнь тоже пошла наперекосяк. Не знаю, утешит ли это вас.
Но я не мог ему этого сказать. Не мог сказать и другого: был момент, мистер Патель, сумасшедший кровожадный момент, когда я хотел – чтобы хуже было Дайсону – вашей смерти.
30
Я пошел к Дайсону. Комната номер два. Ему полагалось бы мандражировать, но Дайсон не из тех. Лицо каменное. Мягкий камень.
С ним уже сидел дежурный адвокат. Что за фрукт, интересно?
Я сказал: «У нас тут и Кении Миллс».
И бровью не ведет.
«А, мудак этот».
«Да, пришлось его забрать. Дело в том, что он там был. Пришел в магазин сразу после того, как это случилось».
Я не спускал с Дайсона глаз.
«И вы взяли этого мудака».
«Я с ним только что беседовал. Говорит, встретил Дайсона по дороге туда. Говорит, Дайсон шел из магазина Пателя».
И опять на лице ничего. Только что-то переключилось внутри глаз, как будто смотрит теперь не на меня, а на Кении.
«Как он мог меня встретить, если я был у Мика Уоррена и смотрел футбол?»
В квартире Уоррена еще шел обыск. Как будто у него в диване мог быть спрятан окровавленный нож.
Адвокат отреагировал быстро: «Я правильно вас понял? Свидетель дал такие показания? Официально?»
«Да».
Маленькое словечко, но магнитофон записал.
«Мы с клиентом должны посовещаться».
Я вернулся в первую комнату. Иногда, если повезет, ловля может начаться и кончиться в четырех стенах. Но бывает, что пойман оказываешься ты.
Там уже юрист. Мне он не понравился.
Я включил магнитофон.
«Ну что ж, Кении, ты свое дело сделал хорошо...»
Адвокат сказал: «Мистер Миллс хочет изменить свои показания».
Я перевел взгляд на Кении. Кении смотрел на стол. Все-таки больше боится Дайсона, чем меня. Может, и прав.
«Мистер Миллс сообщил мне, что дал эти показания под вашим давлением».
Я посмотрел на юриста. Ах ты сука.
«Они не добровольно были даны. Мистер Миллс заявляет, что вы принудили его к этому запугиваниями и обманом».
И не возразишь. Послушать запись – так и получится.
«Кении...» – сказал я.
Он бросил на меня быстрый взгляд. Храбрый взгляд в своем роде. Храбро-трусливый.
Я и сейчас голову отдам на отсечение. Все так и произошло. С вероятностью девяносто пять процентов. Ручаюсь даже за окровавленный нож, которым Дайсон перед ним помахал.
Как бы то ни было, взглядов лента не фиксирует.
Я не мог ему сказать при адвокате и магнитофоне: он все равно тебе припомнит, Кении.
Нет, не припомнит. Потому что Кении отмажет Дайсона. Вдвоем они будут ржать насчет того, как доконали меня. Кении войдет теперь в кружок больших ребят.
Юрист, думаю, увидел. И детектив-констебль Росс, думаю, тоже. Что я на грани, вот-вот сорвусь. Лента таких вещей тоже не фиксирует.
И все-таки надежда – безнадежная надежда, – что Дайсон как-нибудь даст слабину.
Комнаты для допросов. Запах – как в заразных изоляторах.
Я пошел с Россом во вторую. О чем говорили Дайсон и юрист, пока меня не было? Суть я знал. Легавый блефует – не поддаваться, стоять на своем.
А теперь он даже мог заявить – и заявил, – что стал жертвой незаконных действий полиции.
Но Дайсон никакая не жертва – поверьте видавшему виды детективу-инспектору. Не жертва, а палач из палачей. Побоку все эти душещипательные байки, какими палачей перекрашивают в жертв: трудное детство и так далее и тому подобное. Он пустил Пателю кровь, потому что так хотел. Хотел и сделал.
Он молчал. Заговорил юрист. «Мой клиент не может ничего добавить к сказанному...»
Дайсон глядел на меня, и только. Теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, что он уже тогда там стоял, наверху, стоял и смотрел, как я падаю.
Потом Гиббс, новый суперинтендант, сказал, что ничем не может мне помочь. Никакого прикрытия не будет. Обстоятельства не позволяют. Полицию сейчас костерят все кому не лень. «Злостный нарушитель» – вот как он меня припечатал. Ему тоже понадобилось столкнуть меня вниз. Он не меньше моего хотел упрятать Дайсона, но вместо этого решил столкнуть меня вниз, в глубокую расселину.
Запах полицейских участков – даже в кабинете суперинтенданта. Кому захочется работать в таком месте?
А я надеялся – было, было, – что Патель не выкарабкается.
Юрист говорил. Дайсон глядел на меня. Глядел так, словно и передо мной помахал в проулке этим ножом. Попробуй выхвати, если сможешь. Я опять пошел в первую.
Адвокат Кении сказал: «Мистер Миллс подтверждает свои первоначальные показания».
Пиво и сигареты.
Я сказал: «Подумай еще, Кении».
Он смотрел на стол.
«Мистер Миллс...»
Иной раз говорят: света невзвидел. Да, что-то в этом роде. Что-то на меня нашло. Я видел только свои руки на горле у Кении.
Я набросился на него при свидетелях – при адвокате и Россе, – так что адвокату пришлось вмешаться. На Кении, на невиновного. Не на Дайсона даже.
31
Этому пришел-таки конец – так, по крайней мере, я считал. В том самом шестьдесят пятом, когда я поступил в полицию, Фримены переехали в Бристоль, и я подумал, что, если даже это не прекратилось раньше, теперь уж черта подведена. Хотя факт, секрет никуда не исчез. Тайно присутствовал.
Я искал на его лице признаки – сам не знаю чего. Грусти, тоски. Того, что могла бы заметить мама. Что с тобой, Фрэнк? Теперь-то я, конечно, понимаю, что препятствия, расстояния (Лондон – Бристоль) не обязательно означают конец того, что было.
Так или иначе, он всегда улыбался, всегда был весел. «Всех прошу улыбнуться». Так что как по нему поймешь?
В прошлом время от времени, большей частью по понедельникам, встречался с Кэрол Фримен. Ничего особенно серьезного. Лучше от этого или хуже?
А потом – двадцать один год спустя – он умер. Двадцать один год секрет тайно присутствовал, не выходя на поверхность, а за это время я стал сначала простым полицейским, а потом и детективом, женился, у меня родилась Элен, и я регулярно бывал у родителей по воскресеньям (родители Рейчел – случай особый). Я даже нет-нет да находил время сыграть с отцом в гольф, даже сидел с ним на той самой скамейке, под которой было много окурков. Тайное прибежище курильщиков. Мужей, которые вроде бы подвели черту, живущих с женами, которые никогда не узнают.
Он умер в восемьдесят шестом. Ему было лишь немного за шестьдесят. Но мне казалось, что они уже достигли точки, когда в них реально поселилась мысль: кому-то из нас уходить первым. И мама, видимо, понимала, как понимают, исходя из статистики, многие женщины, что вдовство, скорее всего, предстоит ей. Но не думала, что так скоро.
Апрель восемьдесят шестого. Я невольно, помимо всего прочего, думал вот о чем: по крайней мере они теперь будут в безопасности, и я тоже – мой секрет будет в безопасности. Ее воспоминания будут чистыми, без рубцов. Единственный рубец – кровать и он на ней, а казалось, будет жив-здоров еще лет двадцать, если не больше. Кровать и его смертные труды.
Мы дежурили по очереди, его грудь вздымалась и опадала, он то отплывал далеко, то возвращался – знал ли он, что мы рядом, понять было невозможно. Иногда что-то бормотал, иногда просто стонал и хрипел.
А потом он сказал (жить оставалось всего несколько часов): «Кэрол...» Глаза были закрыты, и бог знает, где он в этот момент находился, но сказал он это отчетливо и повторил еще и еще раз: «Кэрол... Кэрол...»