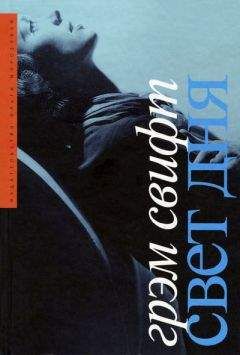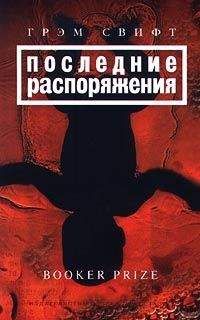Свифт Грэм - Свет дня
Сумасшедшие мысли.
Но я же как-никак детектив. Всегда могу, если мне надо, выследить человека, оказаться поблизости, понаблюдать за ним. Я мог шпионить за ней, как за Бобом и Кристиной. Примерно так же годы тому назад во время наших с Рейчел бракоразводных дел я думал о слежке за ней, о том, чтобы увидеть немыслимое – Рейчел в другой жизни, в своей собственной, без меня. Рейчел, какой она, наверно, была раньше, до нашего знакомства. Рейчел с кем-то другим.
Как мы выбираем?
У нее, скорее всего, кто-то есть – был, по крайней мере. Так что вся эта ее судейская надменность...
Я мог даже вмешаться – понаблюдать и потом вмешаться.
Детектив как-никак. Был и остался.
«Это мой выбор, Элен, так я решил...»
Выбор? Да нет, это в крови. То, что я делаю, то, чем являюсь.
Я даже думаю, мы все это делаем, каждый по-своему. Что-то в крови, в обонянии. Клейкое дыхание летнего дождя под каштаном. Мы охотники, вот мы кто, вечно выслеживаем, высматриваем недостающее. Недостающую часть нашей жизни.
Я мог никогда больше не увидеть Сару по-человечески. Только следил бы, наблюдал, шпионил. Правда, это не значило бы вести себя как детектив. Это значило бы другое.
27
А Кристина? Исчезла, конечно, ушла со сцены. Стала отсутствующей свидетельницей. Марш не собирался ее искать. Хлопоты, расходы. Нет смысла в ясном как день деле. (Разве что несколько облачков на ясном небе.) Нет смысла в оставшееся ему время. До пенсии рукой подать. Так или иначе, если особенно не умствовать, при чем здесь она? В момент преступления она была в воздухе – или в швейцарском аэропорту. На нейтральной территории.
Пытаюсь представить ее себе в тот вечер в самолете. Слезы всю дорогу, платок, сочувствие соседа? Или сухие глаза, спокойные, безжалостные? Сидит и потягивает бесплатное питье?
Думает о том, что оставлено, или о том, что ждет впереди?
Сходит в Женеве, предъявляет все документы, объясняющие, кто она такая. Паспорт страны, которой больше нет.
И не знает – откуда ей знать? – что Боба тоже больше нет. Ни для нее, ни для другой. Огни аэропорта, звуковые объявления, людской поток. Не знает (цель была – положить конец разрушению), какие разрушения оставила за спиной.
Впрочем, ей уже приходилось оставлять за спиной разрушения. История ее жизни. Пять лет в Англии – а тем временем все, что она знала, превращалось в руины. Теперь ехала обратно посмотреть, что осталось.
Ожесточившаяся, с безжалостными глазами? Но и расцветшая, женственная, красивая. Объятия чужого мужа еще при ней, как прикосновение призрака.
Швейцария. Магазины в аэропорту полны часов и шоколада.
Раз за разом ко мне возвращалась мысль: она могла так и не узнать, она и сейчас, может быть, не знает. Заглядывала ли в английские газеты? А если даже заглядывала – увидела ли небольшую заметку (всего-навсего убийство, простое убийство) далеко не на первой странице? С какой стати стала бы интересоваться? Прочь из их жизни – не так ли было условлено? А значит, никаких постскриптумов, взглядов назад, звонков и тому подобного. Мертвы друг для друга.
В Швейцарии, в Хорватии – кто там будет думать об улице, о доме в Уимблдоне? Точно так же, как в Уимблдоне не будут задумываться об улице, о доме (о разрушенной улице, о сгоревшем доме) в бывшей Югославии.
Есть вещи, которых лучше не знать. И если все-таки она знает, если поинтересовалась и выяснила, то решила не заявлять о себе. Живет – где бы она ни жила – как изгнанница с грузом знания.
И ни разу не появилась здесь, на этом кладбище, не сочла нужным приехать, потратить время, деньги – ради того, чтобы постоять. Может быть, поплакать. Положить цветы.
Хотя откуда я знаю? Никто не держит могилу под постоянным надзором.
Солнце здесь, у этой стены, греет, но слой тепла тонок, как бумага. Небо синее-синее, как летнее море. Курортные проспекты. Дубровник...
Вижу ее тоже сидящей, в кафе на открытом воздухе. Женева? Загреб? Дубровник? Зимнее солнце. Дымящийся кофе, блестящие столешницы. Глаз не видно – солнечные очки. Проследить за ее взглядом невозможно. Посмотришь и подумаешь: не ребенок. Кое-где побывала, кое-что повидала.
Чего она хотела? Очень легко сказать, что получила желаемое. Как будто это вопрос арифметики – убыток и прибыль. Девушка с блестящими глазами, приехавшая в Лондон учиться, жить.
Что ж, она не осталась без компенсации. Беженка? Но как-никак с крышей над головой. Пожила и в комфортабельном Уимблдоне, и в комфортабельном Фулеме. О да, сумела перевернуть там все вверх дном. Компенсация? Более чем. Ведь она, может быть, все эти годы шла через войну. Жестокость с обеих сторон. Честно в своем роде. А когда наконец у нее появилась своя страна, куда можно вернуться, она вернулась с добычей, с послужным списком – ветеран лондонских пригородов.
Как такое могло случиться? Тепло его последнего объятия еще было при ней.
Она тоже была охотницей – там, в Уимблдоне. Недостающая часть нашей жизни. Она смотрела на него, он на нее. Чей взгляд сработал? Настал, должно быть, некий момент. И когда он настал, уж она-то знала – по крайней мере одна из двоих, – что правил нет. Жизнь совершается за чертой закона.
Любила ли она его – как бы у них ни началось? А он ее? Здесь нет рецепта, это не кулинария. Может длиться всю жизнь, может выгореть дотла за месяцы. Он, конечно, не хотел дотла.
Они гуляют среди деревьев в парке Уимблдон-коммон. Он берет ее, притиснув к стволу. Но она по-прежнему учит английский, учит слова.
Лучшее время, сказала Сара, было, когда они начали обучать одна другую: английский в обмен на сербохорватский. Учительница стала ученицей, начальный уровень – нулевой. На кухне (как будет «мускатный орех», как будет «тыква»?) или у Сары в кабинете с окном, выходящим в сад. Лучшее время: каждая учит другую своему языку. Пусть даже чувствовалось, что Кристина ей завидует. Что в этом странного? Ее кабинет, спокойное место, безопасное. Перевод текстов. Снаружи сад, зимний, усыпанный сухими листьями. Чувствовалось – Сара была тем, чем хотела быть Кристина.
Что ж – это желание сбылось. Насколько могло сбыться. Английский она выучила в совершенстве. Получила диплом. Тоже переводчица. Квалификация приобретена и удостоверена.
И даже мужчина у них был общий.
«Toadstool. Жабья табуретка», – говорит она. Сумасшедшее слово.
Нагибается (так я себе это представляю – детектив, наблюдаю за ними из-за деревьев), делает вид, что кладет в рот и ест, притворяется, что ей плохо. Чем все кончится? Вдруг она забеременеет – у них у обоих это на уме. Но не только это. Чем все кончится? Может, к примеру, чем-нибудь в подобном роде. Ядом, смертью.
Смотрят друг на друга так, словно оба взаправду что-то съели.
Любовь – это готовность терять, это не значит – иметь, владеть.
Выходит – она принесла жертву? Опять оказалась той, кто теряет все? Снова обездоленная – в нейтральной Швейцарии.
Что с ней было дальше? Куда она отправилась? Я мог бы ее найти, выследить. Командировать себя за границу. Выяснить – знает ли она.
Но это не моя забота, я тут ни при чем. Это его забота – того, кто здесь лежит. Боба.
28
Дайсон это сделал. Дайсон. И если бы в мире была хоть какая-то справедливость...
Я до сих пор потрясен – большей частью, правда, не тем, чем другие, не тем, чем была потрясена Рейчел. Скорее противоположным – тем, что эта история вдруг стала моей, стала историей недобросовестного полицейского, которого надо было примерно наказать. Чуть ли не преступление стало моим – преступление Ли Дайсона, который трижды пырнул ножом Ранджита Пателя в его магазинчике на Дэвис-роуд. Только что не убил человека (не впервой ему было убивать), но никак за это не поплатился.
Но я и своим поведением потрясен, не отрицаю.
Воскресный вечер. Экстренный вызов. Сентябрь восемьдесят девятого. Элен дома не было, так что я не могу свалить все на нее. На ее шпильки, на выводящие из себя замечания. «Глядишь и не видишь».
Да о чем это я? Как могла Элен быть виновата?
Три свидетеля – или не одного, как суд посмотрит, если дойдет, конечно, до суда. Но Дайсон это, его работа, его почерк, и он сидел теперь у меня в участке. Шанс сделать все ясным как дважды два.
Ранджит Патель. Но он через несколько секунд вырубился и двое суток потом не мог говорить. Чудом остался жив. А двое суток – это немало... Любой адвокат защиты убедит суд, что на память потерпевшего нельзя положиться. К тому же Дайсон есть Дайсон, и значит, Патель запросто может испугаться и сказать, что ничего не помнит.
Мира Патель, его жена. Но она выскочила из заднего помещения магазина чуть поздновато и не успела увидеть Дайсона (если это был он). Увидела только мужа, лежащего в страшной луже крови, и, смутно, чью-то фигуру (Дайсона, Дайсона), метнувшуюся за дверь. Первым делом кинулась, конечно, к мужу, а не оглядывать улицу, которая, судя по всему, была на удивление безлюдна, и проулок, ведущий к жилому массиву Каллаган-эстейт. Но теперь готова была заявить под присягой, что Дайсон – она знала это имя – до покушения на убийство несколько раз грубо угрожал и мужу, и ей. Однажды даже – правда, в ее отсутствие – показал мужу нож. Она была так же решительно, как я, настроена упечь Дайсона за решетку, и она полагалась на меня.