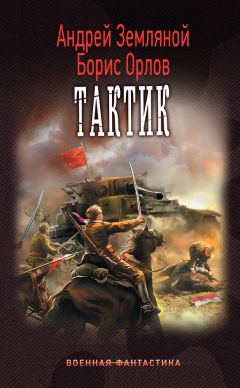Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
А впрочем, может быть то, что я говорю непонятно.
А только ведь у нас всегда так было: если тысяча думает, — что нибудь из этого и должно выйти.
Скажем к примеру, Петр Семенович, задумавшись, на стенку облокотился, а она и поддалась. Оказался из ямы той ход.
Или Николай Иванович скажет:
— Ройте ступеньки!
Поплевали на ноготки, и пошли рвать, вот и выскреблись.
Только должны все понатужиться, а не заниматься иными делами.
Смерти что-ль еще нет?
Нет, так будет.
Так чего же медлить?
Или ты на коне на виду у своей станицы, в крайнем случае и на худой конец, раненый с шашкой свалишься, или тут у тебя из тюфяка, кровью и потом за годы труда накопленное, выдернут, за гроб и дроги заплотють и повезут на кладбище. Но не толь-. ко тебя в чистое белье и шаровары не обрядят, а никто и мыть не станет.
Никто и не вспомнит.
Где там?
Каждого разве упомнишь?
Ведь сейчас так: этот там, этот там, а тот там — по всему свету.
Скажем к примеру! Австралия, Америка, Балканы и так далее. Хо-хо-хо!
Умер человек.
— Кто?
— Казак.
— Фамилия?
— Нездешняя, скажут, и трудно выговоримая — Тшигерев, Хвотий Ильич.
Так то!
И знаешь, Евграфыч, как скажет так вот Иван Ильич, казаки кругом головы повешают, сидят, будто неживые.
Мы задумаемся, потом Петухой, настоящая его фамилия — Саринов, перевернется на другой бок, носом в стенку, ободранную, а я за перо — записать.
Заснет мой друг, Михаил Александрович, начинаю я размышлять.
— Конечно, дело тяжелое. Легко говорить, да трудно сделать. Но все же, что, к примеру, не найдется среди нас дельных казаков? Не могли ли бы мы решить: к Такому, мол, году — быть во что бы то ни стало дома! Неужели мы на свой Казачий Разум не можем расчитывать? Выбрать бы страну поближе к Дону, да и перетягивать туда всех казаков. А набралось бы, так при случае могли бы раскачаться.
Но только если бы все собрались: я — Кондрашка, Иван Ильич, Михаил Александрович, Иван Григорьевич, Тарас, Терентий, Степан Никитич… Да нам бы пулемет! Пустили бы мы веером стальные пули, — полетели бы они пчелами. Нельзя так, — другим способом:
— Освободите нас, господа иностранцы, а мы вашей услуги не забудем.
Или еще что. Господи! Пишу и плачу. Стыдно, а плачу. Да будь вы прокляты, кто нас всю жизнь мучил. Когда вы уж нас в покое оставите, когда от нас отцепитесь?
Надо, надо нам спасаться, пока не поздно. Чтобы все… Ну, а если пошло на то, что семья наша распалась и каждый стал сам по себе и по своей дороге побежал, то…
Завернусь я в одеялко, покурю, вспомню житье — бытье Донское, распрекрасное, вспомню семью, кормильца моего Дона Ивановича, коня своего Дерезка — мышиного цвета, флаг Донской, что на Атаманском дворце когда-то висел, еще что-то вспомню, завернувшись в одеялку, скажу после этого.
Один я, один! Прощай, Иван Ильич, не поминай лихом! И ты, моя разрадёмая сторонушка, — не увижу я тебя!
Скажу так-то вот и…
— Не-е-ет, шалишь! Чтоб я помер? Казак Всевеликого Войска Донского умер завернувшись в одеялку? Никогда! Стыд и срам! Да как я на том свете отцу, деду и прадеду в очи погляжу? Как?
— Ты откудова, спросят, пришел?
— Из Югославии.
— Как? — спросят — воевал?
— Нет, просто так… жил!
— А как же. — с Дону бежал?
— Да.
— Не умер в станице своей родной?
— Нет, там не умер. Отвернуться и пойдут они от меня прочь Где же покой? Покой где? Нет его здесь, не будет его и на том свете.
Слабеет мой глаз. Все хуже и хуже я им вижу. Виной этому, наверное, печь. Жара от ней — ужас!
И так меня тянет куда нибудь подальше, что сил моих уже больше нет. Как говорится у нас „работа зубы показала".
Весна в этом году пришла неожиданно, теплая такая, ласковая. Хорошая. Как раз во время пришла, чтобы людишки малость оттаяли, от холодов чудок отошли.
Улучу часочек свободный, подмигну Петухою, и пойдем мы с ним в поле, прочь от города. Выйдем, — идем по рыхлой уже влажной земле, дышем полной грудью, как кузнечными мехами.
Вот и травка кой-какая пробивается. Пробуждается природа от зимнего сна. Посмотрю на станичника Петухоя: нос у него не нос — труба.
— Землей пахнет, — скажет он мне.
— Чую, станица, ох, чую.
— Дон-то разлился, поди?
— Да, разлился наш батюшка, — Тихий Дон Иванович.
— В Старочеркасском на лодках теперь разъезжают.
— Разъезжают.
— Снарядить бы нам кораблик, да поплысть бы по воде до Азовского этого моря, а потом до своей станицы бы доехать, да сюзьмы бы полопать.
— Сюзьмы?… Ох, чую, говорю, ее запах-аромат.
И так-то вот, мы с Петухоем до того размечтаемся, раздразнимся, что идем все дальше и дальше, на город и не оглядываемся. И кажется нам, что будто мы и не заграницей вовсе, в эмиграции, а дома, по своей степи разгуливаем. Как будто вышли за левады и идем.
А вот іМихаил Александрович совсем, можно сказать, серьезно, меня спрашивает:
— А сколько, Евграфыч, до гаморкинского хутора осталось?
— А вот, говорю, сюда. Рукой подать.
Бредим наяву.
— А как ты думаешь, сперва зайдем к нему, а потом к тебе?
— Ты заходи, а я к Прасковье сбегаю, распоряжусь, да за вами и зайду, — уж у меня хлеба-соли отведаете!
— А дома он сейчас?
— Гаморкин? Дома! Где ему быть-то? Жизнь у нас мирная. Войн, слава Богу, никаких нет!
И начнем мы друг дружку перебивать, описывая, что он делает, что Настасья Петровна, как Нюнька и как Фомка. Ревет или нет? И нос цел у него, или опять на речке в кровь разбил? И как Ротыч, и как дедушка Панкрат, что когда слушает, руку трубкой к уху приставляет, и как всё лежит и где стоит? Ху-у-у! Ну, чисто умопомешанные!
— Довольно, — остановится Петухой, — этак мы с тобой с ума спятим!
— Да и спятим.
— Давай лучше припоминать что.
— Давай.
— Не разсказывал я тебе, как Гаморкин в С. С. С. Р. когда мы были, самым богатым человеком две недели был?
— Нет. Да что ты? Что-ж не расскажешь-то, Расскажи, обязательно, расскажи!
— Ну, так слушай. Подробно распишу. Значит, везут нас в эшалоне с Донской земли на Западный фронт. А Гаморкин, когда был захвачен в Новоросейском, попал при расчете в пулеметную команду при дивизионе. Собственно, у него было две должности: дивизионного каптенармуса и пулеметного писаря. Едут они в одном вагоне — начальник пулеметной команды, начпульком, по болшевицки, помощник его, и третий с ними — Иван Ильич. Дверцы их теплушки отворены в разные стороны, на полу люисы на треногах стоят. Как понимаешь, — едут всего три человека на всю теплушку.
А нас? И кони и люди — понапхато. И спустилась над нашим ползущим эшалоном ночь. Улеглись мы спать. Казаки посередке, как известно, тут же за доской, свешивая над ними головы, шумно дышут кони, бьют копытами в досчатый пол, — застоялись. Изредка кто прикрикнет на четвероногого задиру сонным голосом.
— Кыш, черт! Стаи, сатана!
Я киваю головой. Вот они картины-то. Будто все это вчера было: вагон… кони… фырканье… храп… ночная темь… и прочие такое. И колесы: тук-так, тук-так!
— И опять тишина, — продолжает Петухой, — прерываемая, только стуком колес, хрустом сена, храпом спящих, вздохами подрагивающих кожей и дремлющих, коней. Конь
— стоя, казак — вверх пузом, или крендельком с папахой под щекою. Спит Начпульком, спит и помощник, спит и дивизионный каптенармус и пулеметный писарь Гаморкин, Двадцать Первой Советской Дивизии.
Он мне рассказывал какие ему в ту ночь сны виделись.
— Вижу я кошку о шести хвостах и о трех головах. Одна голова в фате, другая в короне, а третья в папахе. Корона видать-то тяжелая, вся в золоте и в самоцветных каменьях. И все эти три головы мне низко кланяются, шестью хвостами виляют и спрашивают: „Спишь ли ты крепко, Ильич, или при-дремываешь, храпом сон подзываешь? Спишь ли ты, казак Гаморкин? Встал бы ты да помог бы нам".
— Отстаньте, говорю, какого вам лешего от меня надо? Сплю я и крепко даже! Второй сон вижу. Как с Дона меня вывезли
— так и не просыпался бы я. А зачем, все таки, я вам?
— А не видишь разве? Ослеп что ли?
Смотрю — торчат из земли три былиночки: одна белая, другая черная, а третья — бурмалинового цвета.
— Что-ж, — вижу! Растет некая чудно-ватая трава, вроде пырея.
— Пырей это не пырей, а вот ты выдерни-ка, да нам поднеси. Каждой голове свой цвет припадает. Мне — в короне — черная, ей, в фате, невесте непорочной, но с дурными наклонностями — белая, а ей в папахе — бурмалинового цвета былиночка. Кому что попадет, тот с тем и станется.
Дернул я белую, — на конце череп и дыра у него во лбу.
Дернул черную, — крест серебрянный, такой, как попы носят на цепочке.
А хватился за бурмалиновую былиночку — тяжелая она, ох же и тяжелая, а и меня уже интерес взял, — что такое выдернется?