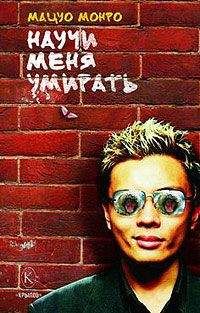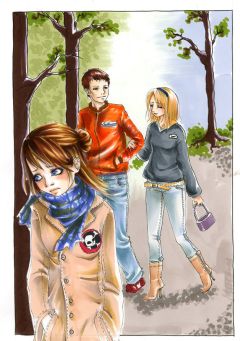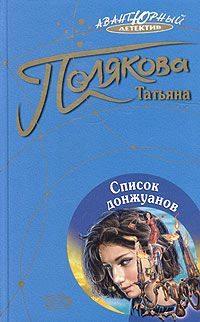Герман Банг - Тине
Тине и глядела, возок за возком…
Ане стояла позади и толковала о своем девере; хорошо бы пристроить его торговать теплым пивом — ежели торговать вразвоз теплым пивом, можно бог весть сколько заработать.
— А уж такой калека наверняка сбудет весь товар, — говорила Ане. И тут же:- Охти, господи, охти, господи. — Ане переметнулась к другому окну. — А вот тяжелораненые… Они укрытые…
Но Тине уже не было в комнате. Она налетела на калеку, сидевшего у дороги, она ничего больше не видела. Почти не сознавая, что делает, она подбежала к крытой повозке и крикнула кучеру:
— Их можно уложить поудобнее, давайте уложим их поудобнее, — лишь ради того, чтобы приподнять шинели и одно за другим заглянуть в эти землисто-бледные лица.
— Им, поди-кась, уже все едино, как они лежат, — задумчиво сказал кучер.
Тине немножко приотстала и бесцельно брела следом, а слезы бежали у нее по щекам.
Позади Тине услышала смех англичан и вздрогнула всем телом, когда они пробежали мимо. Они суетились вокруг повозок, останавливали каждую, чтобы обменяться рукопожатием с кем-нибудь из раненых, заглядывали стонущим в лица и твердили без умолку:
— О, храбрый народ, о, храбрые парни!
Издали Тине углядела барона и его преосвященство на вершине холма, в саду лесничества. Здесь печальная процессия остановилась — англичане вступили в переговоры с одноруким, — и протяжный стон, вызванный внезапной остановкой, прокатился от возка к возку. Его преосвященство воздел свою крупную руку, сказал:
— Да, эти храбрецы отдали свою кровь за отчизну.
Возки тронулись снова. Тине машинально последовала за ними, но тут барон закричал со своего места;
— Йомфру Бэллинг, йомфру Бэллинг! Есть записка от лейтенанта Берга… Он жив и невредим… Мистер Эрбоун привез ее…
Тине замедлила шаг, не сразу поняв его слова. Затем она осторожно провела рукой по глазам и остановилась. Казалось, она лишь теперь увидела и раненых, и оборванных возчиков, и взмыленных лошадей и, увидев, улыбнулась.
Торопливо — все с той же улыбкой — подошла она к ближайшему возку: там едва слышно стонал тяжелораненый, откинувшись головой на дощатый борт возка; Тине побрела рядом, приподняла его голову и ласково поддержала рукой.
— Так лучше? — спросила она.
— Да, — шепнул он и улыбнулся.
Тине шла рядом, не отнимая руки.
— Как пить хочется, — прошептал раненый.
— Сейчас принесу, — сказала Тине и, осторожно опустив его голову, пробежала вдоль изгороди к домику Иенса-хусмена и вынесла оттуда кружку и кувшин с водой.
— Ну, полегчало? — спросила она. Она снова подложила одну руку ему под голову, в другой же держала пустую кружку.
— Да, спасибо.
Он открыл затуманенные глаза.
— А остальным? — едва слышно спросил он.
— Сейчас, — ответила Тине, и на глазах у нее снова выступили слезы. Она опустила раненого на прежнее место и пошла вдоль возков. Она улыбалась страдальцам, заглядывала в их лица, поправляла солому, на которой они лежали, говорила с ними, наливала воду из кувшина и передавала наполненную кружку сперва одному, потом другому. Она пробежала мимо всех повозок, добежала до трактира и, приблизясь к двум столбикам на крыльце, громко выкрикнула своим звонким голосом:
— Тинка! Тащи воду и стаканы! Стаканы и воду!
Тинка выскочила из трактира, и все служанки — за ней следом. Стаканами и чашками черпали они воду из ведер.
Тине распоряжалась. Тинка подсобляла. Вышла и мадам Бэллинг с фруктовым соком и водой.
Тинка и остальные девушки не раз принуждены были отворачиваться, чтобы скрыть подступающие слезы, когда раненые с благодарностью пожимали им руки.
Процессия медленно тянулась через площадь; ненадолго освеженные водой и лаской, раненые попритихли.
Мадам Бэллинг поднялась к себе и стала рядом с мужем у открытого окна.
— Такие молоденькие, такие молоденькие, — твердила она, провожая глазами последний возок, медленно сворачивавший за угол.
Тине остановилась посреди площади возле пустых ведер. Она увидела у раскрытого окна своих родителей и вдруг, бросив все, вошла в дом.
Ей не хотелось сегодня ночевать в лесничестве. Ей хотелось побыть дома, провести здесь хотя бы один вечер, постелив па диване, чтобы меньше возни. Бэллинг сидел у себя в углу и держал ее руки в своих. Он был так счастлив, словно увидел дочь после долгой разлуки.
Начало смеркаться. Тине накинула шаль и вышла на крыльцо — посидеть на скамеечке. Отгрохотали пушки, воцарилась тишина — благодатная тишина. Только из кузни доносился привычный и успокоительный стук молота.
Потом и он смолк: подмастерье закрыл кузню и задвинул засов, а кузнец побрел через площадь, и собака шла следом.
— Вот и стихло все, йомфру Бэллинг, — сказал он, кланяясь Тине.
— Да, — отвечала она.
— Боже, упокой тех, кого уже нет с нами, — печально сказал кузнец. — Доброй вам ночи.
— И вам того же, Кнуд.
Кузнец, а за ним собака свернули в переулок. Тине осталась на скамейке. В наплывающих сумерках шумели высокие ветлы.
…У Бэллингов отпили чай. Бэллинг задремал в своем кресле, а мадам занялась надвязыванием чулок. Тине сидела на приступочке у окна, сложив руки на коленях.
Мадам Бэллинг тревожилась: как они там — фру и маленький Херлуф.
— Ах как ей, должно быть, тяжко, бедненькой, — уехала и не знает, что с ним, — ах как ей, должно быть, тяжко.
— Да, — сказала Тине ласково и грустно!
Она прислонилась головой к старому комоду, стоявшему в простенке, и начала полунапевать-полунаговаривать песенку о маленькой Грете.
Ах, ювелир дражайший, теперь моя песенка спета,
Ведь нынче в Копенгаген от меня уезжает Грета,
И я хотел просить вас, мой мастер дорогой.
Золотое колечко выковать и текст написать такой:
«Прощай, прощай, моя Гретхен».
Мадам Бэллинг подхватила припев, не переставая работать спицами.
— Ах, она так красиво пела эту песню, сказала мадам Бэллинг, когда Тине кончила.
Сама Тине молчала, положив на колени стиснутые руки.
— Пожалуй, время спать, — сказала она и, встав, поцеловала отца.
Тине все еще была дома, в школе, когда часов около шести начали возвращаться на отдых очередные части. Тине начала помогать матери по хозяйству — то там, то тут.
— Но, Тине, — укоряла ее мать, — там ведь полон дом народу. — Надобно сказать, что и в школе народу было не меньше. — Уж мы как-нибудь и сами управимся, как-нибудь и сами управимся… — Она хотела поскорей отправить дочь в лесничество.
— Хорошо, мама, — отвечала Тине, хлопоча возле Бэллинга: тот снова почувствовал себя хуже. — Хорошо, сейчас пойду. До свиданья, папочка, я пошла, — сказала Тине и погладила его по голове. Она была сегодня какая-то тихая и благостная. — До свидания. — Потом она заглянула на кухню, сказала матери: — До свидания, — и убежала.
Она открыла садовую калитку, через прачечную прошла в дом и наткнулась в коридоре на Софи, разносившую завтрак.
— Господи, увидеть господина лесничего живехоньким-здоровехоньким, это ж такая радость, такая радость. — Софи от волнения забыла даже про свои обязанности, — Ах, господи, если б фру могла увидеть его хоть одним глазком.
— Да? — только и спросила Тине и улыбнулась.
Софи входила, выходила, накрывала на стол, в кухне она даже всплакнула.
— До чего ж господин лесничий хорош из себя, до чего ж хорош, глаза совсем как у Херлуфа, совсем как у Херлуфа. Но и у Лэвенхьельма, — тут она вдруг улыбнулась, — и у него фигура очень даже статная. И подумать только, они побывали на поле смерти, а воротились живехоньки и здоровехоньки! — Софи входила и выходила… — Да, да, у Лэвенхьельма очень даже статная фигура, — заявила Софи снова. Она и вообще была склонна отыскивать все новые и новые достоинства у тех, кто вернулся «с поля смерти».
Тине не перебивала ее, но ничего не говорила в ответ. Она тихо прошла на кухню и занялась стряпней: когда кто-нибудь открывал дверь, ей время от времени слышался голос Берга.
Потом, растопив печь, она села к окну у себя в каморке и вдруг услышала шаги Берга и еще чьи-то, а затем увидела и самого Берга, стройного и цветущего.
Берг подошел к окошку и спросил:
— Где это вы прячетесь? (А сам и не думал ее искать.)
Тине отворила окно, он ненадолго задержался возле нее.
— Вам не икалось? — спросил он, глядя на нее. — Я вас вспоминал.
А сам по-прежнему не сводил с нее глаз. Тине не ответила на его вопрос. Она только проговорила медленно, с нежной улыбкой:
— Подумать только, вы вернулись.
Берг вошел к ней, сел возле печки, заговорил о чем-то, но, должно быть, и сам не слышал, о чем. Он неотрывно глядел на нее, а она сидела перед ним крепкая, чистая, цветущая, такая, какой он привык ее видеть и видел теперь, в ночи, в холоде, на шанцах.