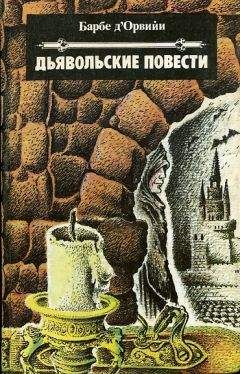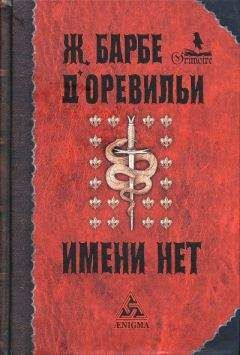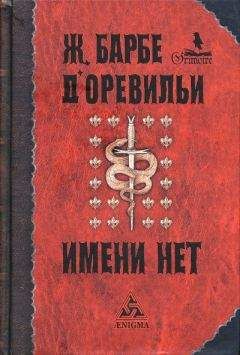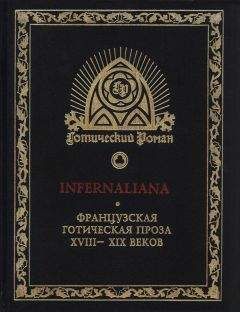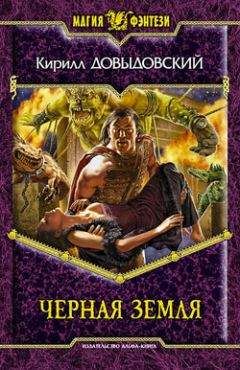Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Порченая
— Заткнись, хрычовка! — рявкнул один из гвардейцев, огрев ее по спине прикладом.
— Вот-вот, займись старой ведьмой, Буян, — распорядился сержант, — понадобится, загони ей в глотку рукоять сабли, чтоб не смела мешать дурацкими воплями военному совету!
Гвардеец угрожающе двинулся к рыдающей Марии Эке, однако старая крестьянка не собиралась безропотно подчиняться супостатам, в запасе у нее было верное оружие, и она собиралась им воспользоваться. Но старческая медлительность подвела ее: она не успела, как собиралась, выхватить из очага горящую головню и обороняться ею, — гвардеец схватил ее в охапку, втолкнул в чулан и запер.
— А теперь, граждане, приступим к обсуждению, — объявил сержант.
И граждане приступили, предложив десять вариантов смерти, десять разновидностей пыток.
Перо отказывается передавать исступленный бред палачей. Выкрикиваемые в пьяной горячке предложения цеплялись друг за друга, сплетаясь в гнусную зловещую паутину. Но главарь бандитов не оценил по достоинству омерзительного рвения своих сообщников, его разозлил тот гвалт, который они подняли, отстаивая, как водится на подобных советах, каждый свою правоту.
— Наслушался идиотов! — гаркнул он, и мощный удар его кулака по столу положил конец спорам. — Я подумал и решил: не стоит убивать гада, если смерть для него чистое счастье! Но вот на прощанье… Смотрите!
Сержант подошел к постели шуана и вцепился обеими руками в повязку. Он рванул ее с такой силой, что она с треском разорвалась. К обрывкам тряпок прилипла кожа, что едва-едва начала затягивать раны.
Хриплый рев, мало похожий на человеческий, исторгли не уста и даже не грудь раненого, а глубины его утробы. Жизнь, казнимая болью в последнем своем пристанище, издавала прощальный вопль.
Мария Эке не могла увидеть того, что творилось в комнате, до того в ней стало темно, но она услышала и от ужаса лишилась сознания.
— А теперь, — провозгласил дьявол-сержант, предводитель адского войска, — подкоптим немножечко падаль!
И, набрав алых углей из очага, гвардейцы засыпали ими лицо, которое и лицом-то уже не было. Кровь, зашипев, загасила жар, угли утонули в ране, словно пули в мишени.
— Пусть теперь живет, если сможет, — засмеялся сержант, — а старуха достирывает, если хочет. И оба пусть отправляются ко всем чертям! Темнотища-то какая, кулака не углядишь! Все угли потратили на «сову» проклятую! Ну, двинули, ребята! Ружья на плечо и вперед, товарищи!
Гвардейцы ушли. Что произошло после их ухода? Наше повествование избегает излишних подробностей, сообщим только, что изуродованный шуан остался в живых. Разлетевшиеся из мушкета пули пощадили его. Опухоль лица, от которой заплыли глаза, спасла зрение после того, как гвардейцы насыпали ему в рану углей.
(Вышеописанный случай произошел с одним из предводителей шуанов, родственником автора этих строк. Впрочем, это не единственный эпизод «совиной войны», напоминающий своей жестокостью страшные деяния «живодеров», Крестьянскую войну 1525 года и многие другие войны. Несмотря на грим цивилизации, человеческое сердце по-прежнему остается свирепым варваром. События декабря 1851 года показали нам, что люди всегда рады вернуться к ужасам, оставленным в прошлом. Поэтому менее чем когда-либо позволительно смягчать и сглаживать эти ужасы. Они принадлежат истории, уроки истории священны.)
Окончилась шуанская война. Вновь открылись церкви, и однажды на церковной службе в городке Белая Пустынь изуродованный шуан поднялся со своей скамьи, на нем была черная ряса с капюшоном. Это и был монах исчезнувшего с лица земли монастыря — знаменитый аббат де ла Круа-Жюган.
IV
В то воскресенье к поздней обедне, роковой, как окажется впоследствии, пришла и села на скамью в первом ряду напротив клироса молодая женщина. Пришла с опозданием, потому что жила не близко. Дело было во время рождественского поста, когда Церковь призывает нас к покаянию, когда душе так тягостны и беспросветность грехов, и беспросветность зимних куцых дней. Просвещая мирян светом истины, Церковь охотно прибегает к помощи искусства, к его наглядности и великолепию, но еще глубиннее и теснее человек связан с природой, поэтому церковные обряды разумно согласованы и со сменой времен года. Зимой пурпур церковных облачений меркнет, сгущаясь до лилового торжественного цвета, символа несокрушимости наших упований. В лиловый полумрак одели церковь Белой Пустыни и ранние зимние сумерки, сочась сквозь витражи, которые и мрачны, и таинственны, если только в них не льются солнечные лучи. Эти витражи, кое-где залатанные оконным потемневшим стеклом, были единственной роскошью, уцелевшей от богатств разоренного аббатства. Молодая женщина, о которой я упомянул, уже раскрыла молитвенник и присоединила свой голос к хору молящихся. Молитвенник, изданный в Кутансе с благословения его высокопреосвященства N, ставшего епископом в здешних местах впервые после революции, пламенел сафьяновым переплетом, горел золотым обрезом, оповещая своей языческой роскошью, что его обладательница не простая крестьянка, а если и крестьянка, раз одета точно так же, как остальные прихожанки, сидящие на соседних скамьях, то из зажиточных. О зажиточности свидетельствовала и крытая васильковым сукном шубка с капюшоном, и традиционный нормандский чепец, похожий на белоснежный шлем, над которым вместо конского хвоста виднелись высоко забранные волосы.
Известным в Белой Пустыни и Лессе богатеем был муж этой женщины, изворотливый и хитрый крестьянин. Когда Республика пустилась торговать национальным достоянием, он хорошенько нагрел на этих торгах руки и буйно пустился в рост, оплетая оставшиеся руины, словно вьюн, что лезет из щелей рухнувшей стены, но, пожалуй, не такой невинный. Про него можно было сказать, что он отлично ловит рыбку в мутной воде, а если понадобится, то и сам замутит воду, чтобы рыбка ловилась лучше.
Мадемуазель Жанна Мадлена де Горижар, как называли ее до замужества, принадлежала к знатному и почитаемому в Нормандии семейству, но, выйдя замуж, стала просто Жанной Ле Ардуэй или, как ее звали по деревенскому обычаю, хозяйкой дядюшки Фомы.
Каждое воскресенье, сколько их ни было по Господней милости, ее всегда видели на мессе, и сидела она всегда на первой скамье, неподалеку от алтаря, на крайнем от прохода месте, потому что с краю виднее процессия, что во время службы обходит церковь. Жанна Ле Ардуэй ходила в церковь не из любви к порядку, а из любви к Господу Богу, верующей была она сама, верующей была семья, в которой она выросла, и, зажив своим домом, она сохранила в нем тот же уклад и ту же истовость.
В Белой Пустыни по заведенному Церковью любезному обычаю служил и читал проповеди не только свой кюре, но по очереди и все другие священники епархии, так что Жанна хорошо знала весь окрестный клир. И как ей было не изумиться, когда, подняв глаза от красного сафьянового молитвенника, она вдруг увидела перед собой высокого монаха, которого, конечно же, не позабыла бы, если бы увидела хотя бы раз.
Монах сидел на отдельной скамье на клиросе прямо напротив Жанны, лицо его скрывал полуопущенный капюшон, но от всей фигуры веяло неодолимой гордыней, ни в чем не смягченной той кроткой верой, служителем которой он был.
Служба рождественского поста шла своим чередом. Жанна следила за мессой по молитвеннику, и, когда высоченный монах в длинной темной сутане, что волочилась за ним по каменным плитам, направился к алтарю и присоединил свой голос к хору, поющему по-латыни, Жанна, прочитав в молитвеннике по-французски: «Господь грядет с силой», невольно отнесла эти слова к монаху — такой непомерной властностью господина веяло от него.
Обернувшись, Жанна спросила у Нонон Кокуан, портнихи-поденщицы, что, опустившись на колени, молилась позади нее, не знает ли она, кто это, и указала на монаха, который так и не вернулся на свое место. Нонон, лучше других осведомленная о церковных делах в Белой Пустыни, поскольку шила на церковный причт, о монахе ничего сказать не могла. Она шепотом осведомилась о нем у двух старушек, соседок по скамье, и, получив от одной «не знаю», а от другой отрицательное покачивание головой, сообщила Жанне, что о монахе у них в приходе ничего не известно.
Нонон исполнилось лет тридцать пять, а может, сорок, и скорее даже сорок, чем тридцать пять. Замуж она не выходила, принадлежа к породе тех красивых гордячек, что, пробудив любовь, не снисходят к ней, а влюбившись сами, таят любовь про себя, потому как слишком уж недоступен избранник, и приходится им по образному народному выражению «по одежке протягивать ножки». Словом, Нонон, хоть и была самым румяным яблочком на щедрой яблоне, все же, несмотря на свежесть, крепость и белорозовость плоти, увяла, не упав, но и в зимнюю пору жизни сохраняла все еще некую сладость, будто тронутая морозцем мушмула. Страсть неутоленной юности горела в ее сердце, и, как свойственно набожным старым девам, не утешенным радостью материнства, она не жалела себя в любви к Господу, пожалев в любви к мужчине. Злые шутники и бесстыжие болтуны Белой Пустыни говорили, что она «Богу на шею вешается», но где им было понять мистическую деревенскую розу, коли не было у них доступа к ее пламенеющим глубинам?