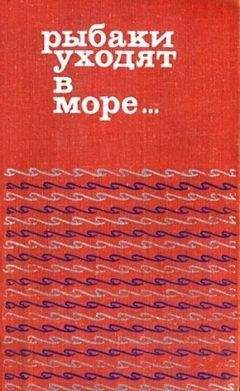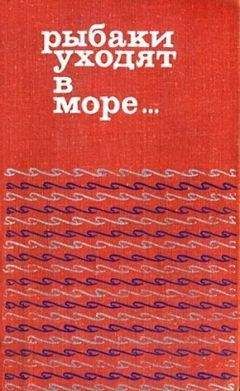Оулавюр Сигурдссон - Избранное
— Ну, — уныло буркнул он, недоверчиво шмыгнул носом и уставился на меня.
Я догадался, что он идет с работы, и, когда он подтвердил это, спросил, по-прежнему ли он работает для армии.
— Теперь с этим делом станет похуже, — ответил он. — Даже не знаю, чем все кончится.
— А есть у них еще сверхурочная работа?
— Ее тоже сворачивают, как и все остальное! Не дай бог снова придет кризис и безработица.
Я сказал, что он излишне пессимистичен: правительство заключило договор о закупке новой техники и оборудования, в том числе траулеров и моторных лодок, которые поступят в Исландию в ближайшем будущем.
— Ну и что! Зачем все это человеку, страдающему морской болезнью! — воскликнул Йоун Гвюдйоунссон и потихоньку зашагал дальше, не желая, однако, прерывать беседу.
Я обратил внимание, что на нем добротная обувь — американские военные башмаки, если не ошибаюсь.
— Я и забыл, что у тебя морская болезнь, — сказал я. — Нам, между прочим, по пути — до следующего переулка.
— А? — переспросил он. — Ну да.
Мы продолжали свой путь по улице Лёйваусвегюр. Можно бы и не спрашивать, принесло ли составленное мною объявление желаемый результат, но я все же спросил.
— А? В первый раз нет, — уклончиво ответил он, словно боясь чего-то. — Перепечатывать пришлось. Два раза.
— Значит, ты доволен своей экономкой? — спросил я.
— Да не жалуюсь. Она следит за домом и не мотовка. Не знаю, лучше ли молодые. Они сразу начинают что-то требовать или затевают скандал.
— Вот и хорошо, что объявление пригодилось, — сказал я.
— Пригодилось? Да, конечно. И все же мне целых три раза пришлось печатать его в газете, а ведь это стоит денег. Боюсь, во время кризиса, когда не было постоянной работы, у меня не хватило бы на это средств.
На следующем перекрестке я остановился, чтобы попрощаться с Йоуном Гвюдйоунссоном. И в этот миг на лице у него появилось новое выражение.
— Послушайте-ка! Вы же умеете писать. Вы должны написать о том, над чем я немного размышлял.
— О чем же?
— Да уж не о пустяках, — сказал Йоун Гвюдйоунссон, размахивая мешком. — Вы бы выступили в прессе против этих глупостей, которые сейчас творятся. Зачем нам выгонять отсюда армию и страдать от кризиса и безработицы. Пускай остаются, если хотят. Они никому не вредят. Они ведь для нас всё. Никогда я не работал у таких простых людей, скажу я вам. Они не подгоняют тебя днем и ночью, как некоторые, не ругаются, не поносят на чем свет стоит, не угрожают. Перед ними не нужно ползать на брюхе и вилять хвостом, как жалкая собачонка, выпрашивая свое кровное жалованье. А иногда они еще и подбрасывают нам что-нибудь, скажу я вам, и офицеры, и сержанты. А когда мне подбрасывали что-нибудь эти наши жирные коты, у которых я работал во время кризиса? Да, спрашивается, когда это они уступали что-нибудь нам, рабочим? И когда при наших жирных котах мы могли получить квартиру в подвале?
Он перевел дух, словно ожидая ответа, но я молчал.
— Например, сейчас, — продолжал он. — Как вы думаете, что мне только что подарили офицер и сержант?
Мое воображение безмолвствовало.
— Кофе, скажу я вам, отличный молотый кофе в коробках, и еще четыре пачки сигарет, фрукты, и шоколад! Разве наши жирные коты, которые расталкивали всех в кризисные годы, так поступили бы? Потому-то я и прошу вас написать в газетах, что нам следует просить военных остаться здесь и пусть берут нас и дальше на работу. Верно я говорю?
Я ответил, что не считаю возможным согласиться с его предложением.
— А? Странно! Это почему же?
— Тут все не так просто.
— Ну да? Это как же так?
— Мы сейчас попадем под ливень, — сказал я. — Доброй ночи, Йоун.
К счастью, ветер принес с моря не ливень, а мелкий дождик, который моросил всю дорогу, до самого дома Бьярдни Магнуссона. Но я хорошо помню, что, когда пошел этот дождик, то есть когда я расстался с Йоуном Гвюдйоунссоном, меня охватила грусть и какой-то страх. Трудно сказать, что было тому виной — погода или что-то иное. Страх, пишу я, страх — отчего и перед чем? — и, как прежде, не нахожу ответа. Конечно, порой мне казалось, что решение загадки у меня в руках, но в тот вечер в начале августа 1945 года, когда я под мелким дождичком шагал на улицу Аусвадлагата, никакого объяснения мне в голову не приходило. Редко я чувствовал себя более одиноким, чем в этот промозглый дождливый вечер, хотя вкусно поел, был тепло принят шефом и его женой и даже получил приглашение от директора банка и депутата альтинга заходить, если мне потребуется поддержка. По-видимому, фру Камилла заметила, какой у меня грустный вид, когда открыла дверь. Пока я снимал мокрое пальто и вешал его на вешалку, она пожелала мне доброго вечера и осведомилась, не болен ли я.
Я покачал головой.
— Ужасная погода тут у нас, на юге. А на севере Исландии солнце и безветрие уже которую неделю подряд! — И она рассказала, что обе ее дочери вместе с тетей уехали этим утром в Акюрейри.
Этой тете было лет пятьдесят, она недавно вернулась из-за океана и гостила у них последнее время. Я не раз слышал, как она сетовала, что не взяла с собой в поездку побольше валюты, чтобы купить шведский мельхиор и габардина на жакет и юбку.
— Не хотите выпить с нами кофе? — спросила фру Камилла.
Я поблагодарил и отказался.
— Вы собираетесь за город на праздник?
У меня не было такого намерения.
— Разве не глупо без дела болтаться в Рейкьявике в такой день? — спросила она. — Может быть, подстрижете газон и приведете в порядок клумбы?
Я согласился: если не завтра, то в воскресенье. В комнате послышался кашель Бьярдни Магнуссона, и мне в ноздри ударил запах его сигары. Кашлял он так, что я заподозрил приближение очередного приступа подагры.
— Трава-то как быстро растет в эту дождливую погоду, а уж о сорняках и говорить нечего, — заметила фру Камилла. — Не хотите кофе?
Я еще раз поблагодарил, поднял с пола портфель и кивнул ей.
— Спокойной ночи.
Собственная комната показалась мне какой-то пустой — наверно, по сравнению с богато обставленными комнатами в доме из исландского шпата. Вынув из портфеля датские журналы, я положил их на стол вместе с книгами, на обложках которых были изображены окровавленный кинжал и рука с револьвером. Но не стал листать ни то, ни другое. Не мог себя заставить, отложил на потом.
Что-то не в порядке — то ли со мной, то ли с остальными. Мысленно я представил себе кучи писем от читателей «Светоча» со всех концов Исландии, ругающих именно тот материал, за который отвечал я. На собрании акционеров шефу удалось пока отстоять мое право выбирать по собственному усмотрению каждый второй рассказ.
Пока?
Да, пока.
Погодите, но при чем тут единодушие? О каком собрании толковал Аурдни Аурднасон? «Мне особенно понравилось полное единодушие», — сказал он. Какие акции он имел в виду? Какие вложения капитала и какую недвижимость? Какие три фирмы сливались в одну? Едва ли он имел в виду недавнее собрание акционеров «Утренней зари», издающей «Светоч», во время которого шеф, по его словам, заступился за меня. Кроме того, Аурдни Аурднасон не договорил… «Объединяются три фирмы и три…» — что он хотел сказать? Три человека? Три группы?
Довольно долго я рассеянно смотрел на обложки, на кинжал и револьвер, потом на вырезки из исландских и зарубежных газет, сложенные в книжный шкаф. Я не трогал их, не было ни желания полистать их еще раз, ни надобности. Да разве мог я когда-нибудь забыть рассказы свидетелей о нацистских лагерях и эти фотографии — орудия пыток, газовые камеры, крематории, груды костей и пепла, лица заключенных, которые остались в живых, когда войска союзников схватили палачей. Были на снимках и немецкие города, превращенные в руины на последнем этапе войны, когда поражение нацистов стало уже очевидным, целые кварталы развалин, словно это богини мести направляли самолеты союзников, руководствуясь принципом: око за око, зуб за зуб. Сверху в шкафу лежала статья известного писателя Лофтюра Лофтссона, где говорилось о том, что в этой войне совершены ужаснейшие преступления и ответственность за них несет весь род человеческий; люди должны беспристрастно выявить темные силы, скрытые в них самих, и найти способ подавить их и уничтожить — иначе вооруженное техникой человечество неизбежно ввергнет себя в такие ужасы, какие еще никому не снились. Я спрятал эту статью, чтобы при случае перечитать ее и обдумать, но решил отложить это до лучших времен, когда будет подходящее настроение. Сейчас я, не раздеваясь, лег на кушетку и в гаснущем свете сумерек стал разглядывать фотографии матери и бабушки.
Прав ли Лофтюр Лофтссон? «Весь род человеческий», — сурово написал он, а значит, вина падала на меня так же, как и на других. Значит, я, так же как и другие, по природе своей отчасти преступник. Значит, и моя покойная бабушка, которая жалела всех и вся, несла некоторую ответственность за злодеяния своей эпохи. Вина моей матери — в чем она заключалась? А в чем моя вина? Разве я не стремился сделать что-нибудь хорошее, быть полезным в чем-то? Не сводится ли идея писателя к древней и простой теории о борьбе бога и дьявола, добра и зла, света и тьмы, Ахурамазды и Ахримана[148]?