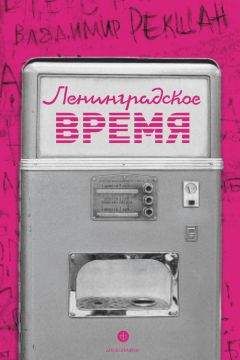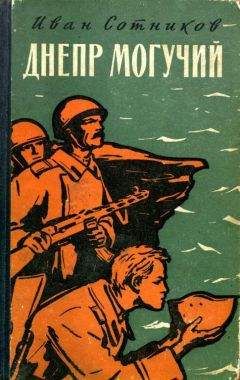Эрнест Хемингуэй - За рекой, в тени деревьев
– Слушай, дочка, – сказал он. – Ты только из-за меня не расстраивайся.
– Я и не расстраиваюсь. Ни чуточки. Но я тебя люблю.
– Тоже не бог весть какое занятие, правда? – Он сказал oficio вместо «занятие», – когда им надоедало говорить по-французски, а по-английски при посторонних разговаривать не хотелось, они иногда разговаривали по-испански. «Испанский язык грубый, – думал полковник, – иной раз грубее кукурузной кочерыжки. Но зато всегда можно точно выразить свою мысль, и она запомнится».
– Es un oficio bastante malo, – повторил он, – любить меня.
– Да. Но это единственное мое занятие.
– А стихов ты больше не пишешь?
– Ну, это были школьные стихи. Так же как и мое рисование. У всех у нас в детстве бывают таланты.
«В каком же возрасте у них тут стареют? – думал полковник. – В Венеции не бывает стариков, но мужают здесь очень быстро. Я и сам быстро возмужал в Венеции и никогда уж потом не был таким взрослым, как в двадцать один год».
– Как мама? – спросил он ласково.
– Очень хорошо. Она никого не принимает и почти не видит людей. У нее ведь такое горе.
– Как ты думаешь, она очень расстроится, если у нас будет ребенок?
– Трудно сказать. Она очень умная. А мне все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Но очень не хочется.
– Мы могли бы с тобой пожениться.
– Нет, – сказала она. – Я подумала и решила, что лучше не надо. Это такое же решение, как насчет того, что не нужно плакать.
– А что, если ты решила неверно? Видит бог, я тоже принимал неверные решения, и очень много людей погибло из-за того, что я ошибался.
– По-моему, ты преувеличиваешь. Не верю, чтобы ты часто ошибался.
– Не часто. Но бывало, – сказал полковник. – В моем деле трех раз больше чем достаточно, а я ошибся целых три раза.
– Расскажи, как это было.
– Тебе будет скучно, – сказал полковник. – Мне самому до смерти тошно, когда я вспоминаю, а другим – тем более.
– А я разве другая?
– Нет. Ты моя любовь. Моя последняя, единственная и настоящая любовь.
– А ты их принял, эти решения, давно или недавно?
– Одно давно. Другое попозже. А третье недавно.
– Может, ты мне все-таки расскажешь? Я тоже хочу заниматься твоим скверным ремеслом вместе с тобой.
– А ну его к дьяволу! – сказал полковник. – Ошибки были сделаны, и я заплатил за них сполна. Беда только в том, что расплатиться невозможно.
– Расскажи, как это было и почему невозможно.
– Не хочу, – сказал полковник. И переубеждать его было бесполезно.
– Тогда давай веселиться.
– Давай, – сказал полковник. – Жизнь-то ведь у нас только одна.
– А вдруг не одна? Вдруг еще будут и другие?
– Не думаю, – сказал полковник. – Ну-ка, повернись ко мне в профиль, чудо мое!
– Вот так?
– Так, – сказал полковник. – Именно так.
"Ну вот, – подумал полковник, – начался последний раунд, а я даже не знаю, какой он по счету. Я любил в своей жизни только трех женщин и трижды их терял.
Женщину теряешь так же, как теряешь батальон, – из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и немыслимо тяжелых условий. И еще – из-за своего скотства.
Я потерял в своей жизни три батальона и трех женщин, а теперь у меня четвертая, самая красивая из всех, и чем же, черт подери, это кончится?
А ну-ка, объясните, генерал, – ведь у нас сейчас не военный совет, а свободный обмен мнениями по поводу создавшейся обстановки, – ответьте мне, генерал, на вопрос, который вы мне сами не раз задавали: Где же ваша кавалерия, генерал?
Ну вот, так я и думал, – сказал он себе. Командир не знает, где его кавалерия, а кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и часть ее, ровно столько, сколько для этого нужно, изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах, с тех самых пор, как ее посадили на коней".
– Чудо ты мое, – сказал он. – Ма tres chere et bien aimee.33 Я очень скучный человек, ты уж меня, пожалуйста, прости.
– Мне с тобой никогда не скучно, я ведь тебя люблю. Мне только хочется, чтобы сегодня мы были повеселее.
– Будь я проклят, но сегодня мы будем веселые, – сказал полковник. – А ты не знаешь чего-нибудь особенно веселого?
– А мы сами разве не веселые, да и все, что творится тут, в городе… Ты ведь часто бывал веселый.
– Да, – признался полковник, – бывал.
– Неужели мы не можем еще раз повеселиться?
– Конечно. Можем. Отчего же…
– Видишь того молодого человека с волнистыми волосами – он их не завивает, он их только аккуратно укладывает, чтобы казаться покрасивее.
– Вижу.
– Это очень хороший художник, но передние зубы у него вставные. Он был раньше pederaste, но другие pederastes как-то раз напали на него на Лидо во время полнолуния.
– Сколько тебе лет?
– Скоро будет девятнадцать.
– Откуда же ты все это знаешь?
– Мне рассказывал один гондольер. Этот молодой человек по нашим временам очень хороший художник. Теперь ведь настоящих художников не бывает. Но подумай, ходить со вставными зубами в двадцать пять лет – это просто смешно!
– Я тебя очень люблю, – сказал полковник.
– И я тебя очень люблю. Я только не знаю, что это значит по-вашему, по-американски. Но я люблю тебя и по-итальянски, хотя это против моих взглядов и против моего желания.
– Нельзя так чертовски много желать, – сказал полковник, – не то, смотри, желание возьмет да исполнится!
– Верно, – сказала она. – Но я бы хотела, чтобы мое теперешнее желание исполнилось.
Оба помолчали, потом девушка сказала:
– Этот молодой человек, – он теперь уже настоящий мужчина и ухаживает за женщинами, чтобы скрыть, что он такое, – написал мой портрет. Хочешь, я тебе его подарю?
– Спасибо. Я буду очень рад, – сказал полковник.
– Там все так поэтично! Волосы куда длиннее, чем у меня на самом деле; и кажется, будто я выхожу из моря, даже не намочив головы. А когда выходишь из воды, волосы прилизанные, концы у них слипшиеся и вся ты похожа на дохлую крысу. Но папа хорошо заплатил за портрет, и хотя это совсем не я, но такой ты бы хотел меня иметь.
– Я часто себе представляю, как ты выходишь из моря.
– Ну да! Ужасное уродство!.. Может, ты правда возьмешь этот портрет на память?
– А твоя мама возражать не будет?
– Нет, мама возражать не будет. По-моему, она будет даже рада от него избавиться. У нас есть картины получше.
– Я очень люблю вас обеих – и тебя, и твою маму.
– Я ей это непременно скажу.
– Как ты думаешь, этот конопатый хлюст в самом деле писатель?
– Да. Этторе ведь тебе сказал. Этторе любит пошутить, но никогда не врет. Ричард, что такое хлюст? Только ты надо мной не смейся.
– Боюсь, что это трудно объяснить. По-моему, хлюст – это человек, который никогда всерьез не занимался своим делом (oficio) и только раздражает всех своим нахальством.
– Мне надо научиться правильно употреблять это слово.
– Не стоит употреблять его вообще. – Потом он спросил: – А когда я получу твой портрет?
– Если хочешь, сегодня. Я попрошу, чтобы его упаковали и послали тебе. Где ты его повесишь?
– У себя дома.
– А туда никто не придет и не будет надо мной смеяться и говорить гадости?
– Нет. Пусть только попробует. И потом, я им скажу, что это портрет моей дочери.
– А у тебя когда-нибудь была дочь?
– Нет, но мне всю жизнь хотелось, чтобы она была.
– Но я могу быть тебе и дочерью тоже.
– Тогда это будет кровосмешением.
– В таком старинном городе, как наш, это никого не испугает. Чего тут только не видали!
– Послушай, дочка…
– Вот и хорошо, – сказала она. – Мне это очень нравится.
– Ну и слава богу, – сказал полковник. Его голос звучал чуть-чуть хрипло. – Мне тоже нравится.
– Теперь ты понимаешь, за что я тебя люблю, хоть и знаю, что этого не надо?
– Послушай, дочка… Где мы будем ужинать?
– Где хочешь!
– Давай поужинаем в «Гритти»?
– Давай.
– Тогда позвони домой и спроси разрешения.
– Не хочу. Я не буду просить разрешения, я просто им скажу, где я ужинаю, чтобы они не беспокоились.
– Но ты в самом деле хочешь ужинать в «Гритти»?
– Конечно. Это очень хороший ресторан, и ты там живешь, и все могут нас там видеть.
– С каких пор ты стала такой?
– А я и была такая. Мне всегда было все равно, что обо мне думают. И потом, я никогда не делала того, чего надо было стыдиться, разве что врала, когда была маленькая, и грубила.
– Эх, как бы я хотел, чтобы мы могли пожениться и родить пятерых сыновей, – сказал полковник.
– Я тоже, – сказала девушка. – И разослать их в пять разных концов света.
– А разве у света пять концов?
– Не знаю, – сказала она. – Пока я говорила, мне казалось, что да. Ну вот видишь, мы опять веселимся правда?
– Да, дочка.
– Ну-ка, скажи еще раз. Повтори, как ты сказал.
– Да, дочка.
– Ах, – сказала она. – Почему у людей все так сложно? Можно мне подержать твою руку?
– Она такая уродливая, мне самому противно на нее смотреть.