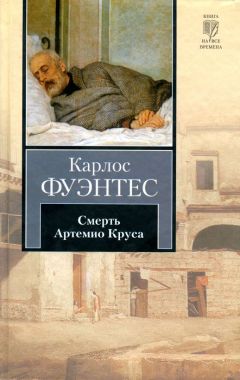Карлос Фуэнтес - Смерть Артемио Круса
Вот облако пыли… Яростные морды летящих коней… Всадник, орущий и машущий саблей… Вон поезд стоит, там, дальше… Вихрь пыли, ближе и ближе… Вот солнце — совсем уж близко, сверкает над обезумевшей головой… Сабля скользит по лбу… И кони проносятся мимо, сбив его с ног…
Он поднялся и дотронулся до раны на лбу. Надо снова вернуться в лес, только там безопасно. Земля кружится. Солнце слепит глаза, в мареве сливаются горизонт, сухая равнина и цепь гор. Добравшись до леска, он зацепился за дерево, сел. Расстегнул куртку, оторвал от рубахи рукав, поплевал на него и смочил окровавленный лоб. Стал обматывать лоскутом голову, гудящую от боли, когда вдруг рядом, под тяжестью чьих-то сапог хрустнули сухие ветки. Затуманенный взор медленно пополз вверх, по стоявшим перед ним ногам: солдат из революционной армии, а на спине у него какое-то тело, окровавленный истерзанный мешок с висящей изувеченной рукой — кровь уже не течет.
— Я нашел его у опушки. Кончается. Руку ему изувечило, мой… мой лейтенант.
Солдат, высокий и чернявый, сощурил глаза, чтобы разглядеть знаки различия.
— Наверное, помер. Тяжелый, как мертвец.
Свалил с себя тело и прислонил к стволу дерева — точно так же, как это сделал Он полчаса или минут пятнадцать назад. Пригнулся ко рту раненого. Он узнал этот раскрытый рот, широкие скулы, ввалившиеся глаза.
— Да, помер. Если бы я раньше поспел, может, и спас бы.
Солдат закрыл глаза покойнику большой квадратной пятерней.
Застегнул серебряную пряжку и, опустив голову, пробормотал сквозь белые зубы:
— Эх, мой лейтенант. Если не было бы на свете таких храбрецов, что сталось бы со всеми нами.
Вскочив, Он повернулся спиной к живому и к мертвому и снова ринулся в поле. Там лучше. Хотя ничего не видно и не слышно. Хотя весь мир кажется рассыпанными вокруг тенями. Хотя все звуки войны и мира — пение сенсонтлей, ветер, далекое мычание волов — сливаются в один глухой барабанный бой, забивающий остальные шумы и наводящий тоску. Вот под ноги попался труп. И он, не сознавая зачем, грохнулся перед ним на колени, а минутой позже сквозь монотонную дробь оглушающего барабана пробился голос:
— Лейтенант… Лейтенант Крус!
На плечо лейтенанта легла рука. Он поднял глаза.
— Вы сильно ранены, лейтенант. Идемте с нами. Федералы бежали. Хименес не отдал деревни. Пора возвращаться в казарму, в Рио Ондо. Кавалеристы дрались, как черти, их словно прибавилось в числе, ей-богу. Пойдемте. Вы, кажется, плохо видите?
Он оперся о плечо офицера, пробормотав:
— В казарму. Да, пошли.
Нить потеряна. Нить, позволявшая, не блуждая, идти по лабиринту войны. Не блуждая. Не дезертируя. Руки едва держали поводья. Но лошадь, привязанная к седлу майора Гавилана, сама медленно шла через горы, которые отделяли поле боя от долины, где ждала она. Нить исчезла. А внизу, впереди, лежала деревня Рио Ондо, такая же, какой он оставил ее этим утром: розовые, красноватые, белые глинобитные домики с дырявыми крышами и частоколом кактусов. Ему казалось, что рядом с зелеными губами оврага уже можно различить дом, окно, где его ждет Рехина.
Гавилан ехал впереди. Солнце заходило, и гора накрывала тенью усталые фигуры двух военных. Лошадь майора замедлила шаг, и лошадь лейтенанта поравнялась с нею, Гавилан предложил ему сигарету. Табак разгорелся, и лошади снова затрусили по дороге. Но при вспышке огонька он заметил на лице майора выражение явного сострадания и опустил голову. Что же, заслужил. Они знают правду о его бегстве с поля боя и сорвут офицерские нашивки. Но они не знают всей правды, не знают, что он хотел спастись, чтобы вернуться к любви Рехины, и они не поймут, если Он станет объяснять. Они не знают также, что Он бросил раненого солдата, хотя и мог спасти ему жизнь. Любовь Рехины смоет его вину перед брошенным солдатом. Так должно быть. Он опустил голову и впервые в жизни почувствовал стыд. Стыд. Но нет, в ясных, честных глазах майора Гавилана нет укора. Майор погладил свободной рукой свою рыжую бородку, пронизанную солнцем и пылью:
— Мы обязаны вам жизнью, лейтенант. Вы и ваши люди задержали их наступление. Генерал встретит вас, как героя… Артемио… Я буду звать вас просто Артемио, а?
И устало улыбнулся. Положив руку на плечо лейтенанта и вопросительно глядя на него, майор прибавил с коротким смешком:
— Столько времени воюем вместе и, смотрите, до сих пор не перешли на «ты».
Опускалось черное призрачное стекло ночи, и только над горами, отступившими вдаль, сгрудившимися во тьме, вспыхивал отблеск заката. Неподалеку от казарм догорали костры — издали их не заметить.
— Сволочи! — вдруг хрипло выругался майор. — Нагрянули вдруг в деревню, будь они прокляты. К казарме — то, понятно, не смогли пробиться. Зато отыгрались на деревенских: творили что хотели. Они и раньше обещали мстить деревням, которые нам помогают. Взяли десять заложников и сообщили, что повесят их, если мы не сдадим позиции. Генерал ответил им огнем мортир.
Улицы были заполнены солдатами и крестьянами. Уныло бродили бездомные собаки, а дети, бездомные, как собаки, плакали у дверных порогов. Там и сям еще тлели пожарища, посреди улицы сидели женщины на матрацах и спасенных пожитках.
— Лейтенант Артемио Крус, — тихо говорил Гавилан, нагибаясь к солдатам.
— Лейтенант Крус, — бежал шепоток от солдат к женщинам.
Толпа раздавалась и пропускала двух лошадей: караковую, нервно фыркавшую среди напиравших людей, и понуро шедшую за ней вороную. Люди из конного отряда, которым командовал лейтенант, тянули к нему руки, похлопывали по ноге в знак приветствия, кивали на лоб, обвязанный окровавленной тряпкой, негромко поздравляли с победой.
Они проезжали деревню — впереди чернел овраг. Вечерний ветерок покачивал деревья. Он поднял глаза: вот и белый домик. Посмотрел на окна — закрыты. Красные язычки свечей мерцали в дверях некоторых домишек. У порогов темнели группки людей, сидевших на корточках, съежившихся.
— Не смейте вынимать их из петли! — кричал лейтенант Апарисио, поднимая свою лошадь на дыбы и снова ударом хлыста по молитвенно сложенным передним ногам заставляя ее опускаться.
— Запомните их всех! И знайте, с кем мы сражаемся! Враг заставляет крестьян убивать своих братьев. Смотрите на них. Враг вырезал племя яки, потому что оно не хотело отдать свои земли. Он расстрелял крестьян в Рио Бланке и Кананеа, потому что они не хотели подохнуть с голоду. Он перебьет всех, если мы сами не перебьем ему хребет. Смотрите!
Палец юного лейтенанта Апарисио уперся в скопище деревьев у оврага: наспех сделанные петли из ершистой хенекеновой веревки еще выдавливали кровь из глоток, но глаза уже вылезли из орбит, языки посинели, а обмякшие тела тихо качались на ветерке, дувшем с гор, — они были мертвы. На уровне людских глаз — растерянных или гневных, горестных или непонимающих, полных спокойной печали — болтались грязные уарачи, босые ступни ребенка, черные туфельки женщины. Он слез с лошади. Подошел ближе. Обхватил накрахмаленную юбку Рехины и застонал, хрипло и надрывно: зарыдал впервые, как стал мужчиной.
Апарисио и Гавилан отвели его в ее комнату. Заставили лечь, промыли рану, заменили грязную тряпку повязкой. Когда они ушли, Он обнял подушку и уткнулся в нее лицом. Заснуть — вот и все. Да, сон сможет и его вырвать из жизни, соединить с Рехиной. Нет, это невозможно; теперь, на этой кровати под желтой москитной сеткой с еще большей силой, чем раньше, будет властвовать запах влажных волос, гладкого тела, податливых чресел. Она сейчас такая близкая, какой не бывала в действительности, такая живая, как никогда, — вся она, она сама, принадлежит только ему. Воспоминания терзали пылавшую голову. Во время коротких месяцев их любви Он, казалось, никогда не смотрел в ее прекрасные глаза с таким волнением, никогда не сравнивал, как сейчас, с их сверкающими близнецами: с черными алмазами, с глубинами озаренного солнцем моря, с дном каменного древнего ущелья, с темными вишнями на дереве из жаркой плоти. Он никогда не говорил ей так. Все было некогда. Не хватало времени, чтобы так говорить про любовь. Никогда не оставалось времени для последнего слова. А может, если закрыть глаза, она вернется и оживет под жгучей лаской трепетных пальцев. Может быть, надо только представить ее себе, чтобы всегда иметь рядом. Кто знает, может быть, воспоминание действительно в силах продлевать жизнь, тесно сплетать ноги, раскрывать по утрам окно, расчесывать волосы, воскрешать запахи, звуки, прикосновения. Он встал. На ощупь нашел в темной комнате бутылку мескаля.[27] Но почему-то водка не помогла забыться, как бывало, — напротив, воспоминания стали еще живее и острее.
Спирт жег ему нутро, а Он возвращался к утесу на морском берегу. Возвращался. Но куда? На тот вымышленный берег, который никогда не существовал? К вымыслу этой чудесной девочки? К сказке про встречу у моря, придуманной ею, чтобы Он не чувствовал себя виноватым, бесчестным и был уверен в ее любви? С отчаяния разбил об пол стакан с мескалем. Вот для чего нужна водка — чтобы топить ложь. Но та ложь была прекрасна.