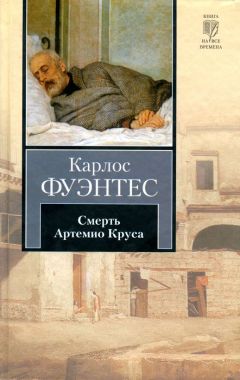Карлос Фуэнтес - Смерть Артемио Круса
(«- Рехина… Рехина…
— Помнишь тот утес, который вдавался в море, как каменный корабль? Он ведь и сейчас там.
— Там я тебя нашел. Ты часто туда ходила?
— Каждый вечер. В прозрачную воду лагуны можно глядеться как в зеркало. Я смотрела на себя, и вот однажды рядом с моим лицом оказалось твое. А по ночам в лагуне отражались звезды. А днем — яркое солнце.
— Я не знал, куда деваться в тот вечер. Мы ворвались, как черти, и вдруг все стихло — трусы сдались. С непривычки хоть подыхай от безделья. Стали тогда приходить на ум разные вещи, вот я тебя и отыскал. Ты сидела на том утесе. А с ног капала вода.
— Мне тоже хотелось тебя найти. И ты вдруг очутился рядом, совсем рядом со мной, и выглянул из морской воды. Ты догадался, что мне тоже этого хотелось?»)
Заря еще не занялась, но серая вуаль развеяла сон двух тел, спаянных руками. Он проснулся первым и не стал тревожить сладкий сон Рехины. Сон — тончайшая извечная паутина, двойник смерти. Ноги поджаты, рука на груди мужчины, влажные губы полуоткрыты. Им нравилась любовь на рассвете, они переживали ее как праздник, возвещающий новый день. Тусклый свет едва обрисовывал профиль Рехины. Скоро проснется и зашумит деревня. А сейчас лишь дыхание смуглой девушки, спящей с радостной безмятежностью, говорило, что жив почивающий мир. Только одно имеет право разбудить ее, только счастье жизни имеет право заменить счастье сна, в который погружено тело, свернувшееся на простыне, — гладкий, матовый полумесяц. Но имеет ли право? И юношеское воображение унесло его дальше: ему почудилось, будто спящая уже отдыхает от любви, той, что разбудит ее через несколько секунд. Когда же счастье острее? Он нежно дотронулся до груди Рехины. Представить только, какой будет сейчас их близость, самая близкая близость. Приглушенная радость воспоминания и неодолимое; бурное желание, вскипающее от любви, от нового свершения любви: счастье. Он поцеловал ухо Рехины и увидел ее первую улыбку: придвинул голову, чтобы не упустить первого движения радости. Почувствовал на себе ее руку. Желание сгущалось и падало, капля за каплей.
Они вернулись друг к другу от целого мира, к истокам жизни от велений рассудка, к двум голосам, звучащим в тишине, к внутренним голосам, которые называют вещи своими именами. И тогда Он старается думать обо всем, но только не об этом; витает где-то, ведет чему-то счет, старается ни о чем не думать — лишь бы это так скоро не кончилось; старается наполнить голову морями и дюнами, плодами и облаками, домами и животными, рыбами и посевами — только бы это не кончилось; вскидывает лицо, закрыв глаза, а на судорожно вытянутой шее вздуваются вены. И тогда Рехина забывает обо всем на свете непобежденная, прерывисто дышит, сдвинув брови и улыбаясь: да, да, ей хорошо, да, да, вот так, еще, еще… До тех пор, пока вдруг не ощутится, что все случилось одновременно и ни один из них уже не может созерцать другого, потому что оба стали единым целым и говорят одинаковые слова.
(«-Я счастлив.
— Я счастлива.
— Люблю тебя, Рехина.
— Люблю тебя, любимый.
— Тебе хорошо со мной?
— Всегда… О, как хорошо с тобой…»)
Тем временем на пыльной улице прогрохотала бадья водовоза, у реки закрякали дикие утки, а заливистый рожок возвестил о возврате к неизбежному. Зазвенели шпоры на сапогах, зацокали копыта, из дверей домов запахло подгоревшим маслом.
Он протянул руку и пошарил в карманах рубашки, ища сигареты. Она подошла к окну, распахнула створки. И так стояла, вдыхая утренний воздух, опираясь раскинутыми руками на подоконник. Глазам влюбленных открылся полукруг дымчатых гор и солнце. Из деревни тянуло запахом печеного хлеба, а откуда-то издалека — ароматом мирта, смешанным с гнилыми испарениями болот в ущелье. Он видел только нагое тело с раскинутыми в стороны руками, которые не хотели впускать день, нести его с собой в кровать.
— Хочешь завтракать?
— Слишком рано. Дай докурить.
Голова Рехины легла на плечо юноши. Длинная и беспокойная рука ласкала ее бедро. Они улыбались.
— Когда я была девочкой, мне так легко жилось. Столько было хорошего. Каникулы, праздники, лето, игры. Не знаю почему, когда я выросла, я стала чего-то ждать. А в детстве — нет… И меня потянуло к тому утесу. Я сказала себе — надо ждать, ждать. Не знаю, почему в то лето я так изменилась и перестала быть девчонкой.
— А ты и сейчас девчонка.
— С тобой-то? После всего, что мы делаем?
Он расхохотался и поцеловал ее. Она свернулась клубочком и прижалась к его груди — как птица в гнезде. Обняла за шею, не то воркуя смешливо, не то притворно всхлипывая:
— А ты?
— Я не помню. Нашел тебя и очень люблю.
— Скажи, почему я поняла, как тебя увидала, что мне больше ничего не надо? Знаешь, я тогда сказала себе: надо решиться, сейчас или никогда. Если ты уедешь — моя жизнь кончена. А ты?
— Я тоже так. А ты не думала, что какой-то солдат просто хотел поразвлечься?
— Нет, нет. Я и формы твоей не видела. Я только видела твои глаза, отраженные в воде, и потом уже не могла смотреть на свое отражение без твоего рядом с моим.
— Хорошая моя, любовь моя. А ну, не пора ли нам пить кофе?
Когда они расставались в эти утренние часы, как две капли воды похожие на все другие часы полугодия их молодой любви, она спросила, скоро ли выйдет войско. Он ответил, что не знает, — как захочет генерал. Наверное, придется идти добивать отряды федералов, еще бродящих по округе, но казарма в любом случае останется в этой деревне. Тут много воды и скота. Подходящее место для привала. После Соноры солдаты здорово измотались и заслужили отдых. К одиннадцати все должны собраться на площади у комендатуры. После захвата деревни генерал всегда издает указы: батракам работать на полях не более восьми часов, крестьянам — получить землю. Если поблизости есть усадьба, велит сжечь дотла. Если есть заимодавцы и ростовщики — а такие всегда находятся, не все удирают с федералами, — объявляет долги недействительными. Самое плохое, что почти весь народ ходит под ружьем, почти все крестьяне стали солдатами и, по сути, некому выполнять указы генерала. Было бы, конечно, лучше тут же отбирать деньги у богатеев, которые сидят почти в каждой деревне и ждут, когда победит революция, чтобы ввести восьмичасовую поденщину и прибрать к рукам землю. Теперь надо взять Мехико и выкинуть из президентов этого пьяницу Уэрту, убийцу дона Панчито Мадеро.[25]
— Ну и покружил я, — бормотал Он, запихивая рубашку цвета хаки в белые штаны, — ну и покружил! Из Веракруса, из провинции, попал в Мехико, оттуда — в Сонору, а потом учитель Себастьян попросил меня доделать то, что старикам стало не под силу: пойти на север, взяться за оружие и освободить страну. Был я тогда совсем мальчишкой, хоть и стукнуло мне двадцать. Право слово, даже женщины не знал ни одной. И разве можно было ослушаться учителя Себастьяна, который обучил меня трем вещам, какие сам знал: читать, писать и ненавидеть попов.
Он умолк, когда Рехина поставила на стол две чашки кофе.
— Ух, горячо!
Было еще рано. Обнявшись, они вышли на дорогу.
Она — в своей накрахмаленной юбке, Он — в белом плаще и фетровой шляпе. Домишко, приютивший их, стоял неподалеку от глубокого оврага. С края оврага свешивались вниз колокольчики, а из кустов несло падалью: разлагался кролик, растерзанный койотом. На дне бежал ручеек. Рехина нагнулась над водой, словно и теперь думала увидеть свое отражение. Они взялись за руки: дорожка в деревню поднималась к другому краю обрыва. Сверху доносилось монотонное пощелкивание дрозда. Нет, это легкое постукивание копыт, приглушенное периной пыли.
— Лейтенант Крус! Лейтенант Крус!
Конь остановился, резко заржав. Пыль маской облепила потное веселое лицо Лорето, адъютанта генерала.
— Поторапливайтесь, — прохрипел он, вытирая лоб платком, — есть новости. Прямо сейчас выступаем. Вы уже завтракали? В казарме яйца дают…
— А мне зачем?!.. — улыбнулся Он в ответ.
Легче облака пыли было объятие Рехины. Лишь когда скрылся из виду конь Лорето и вернулась тишина, она со всей страстью любящей женщины стиснула плечи своего юного любовника.
— Жди меня здесь.
— Как ты думаешь, что случилось?
— Наверное, остатки вражьих отрядов. Ничего особенного.
— Мне ждать тебя?
— Да. Не уходи. Я вернусь сегодня вечером или — самое позднее — завтра к рассвету.
— Артемио… Когда-нибудь мы возвратимся туда?
— Кто знает. Кто знает, сколько еще промаемся. Не думай об этом. Знаешь, как я тебя люблю?
— И я тебя. Очень. Наверное, навсегда.
А в центральном патио казармы и в конюшнях войско, получившее приказ о новом выступлении, готовилось к походу с ритуальным спокойствием. По рельсам, соединявшим патио со станцией, катились одна за другою платформы с пушками, запряженные белыми лопоухими мулами; за пушками следовали лафеты, груженные боеприпасами. Кавалеристы укорачивали поводья, отвязывали мешки с фуражом, подтягивали подпруги, ласково поглаживали лохматые гривы своих боевых коней, смирных и податливых, обожженных порохом, облепленных клещами. Двести лошадей — соловых, в яблоках и вороных — шаг за шагом удалялись от казармы. Пехотинцы чистили ружья и цепочкой проходили мимо смеющегося карлика, раздававшего патроны. Шляпы с севера — серые фетровые шляпы с загнутыми вверх полями. На шеях — платки. У пояса — патронташи. Мало кто в сапогах: из-под миткалевых штанов выглядывали башмаки из желтой кожи, а то и просто уарачи.[26] Рубаха, заправленная в штаны, без воротника. Там и сям — на улицах, в патио, на станции — виднелись индейские шляпы, украшенные ветками. Это — музыканты с трубами через плечо. Последний глоток теплой воды. На жаровнях — котлы с бобовой похлебкой, миски с вареными яйцами. Со станции донесся многоголосый вопль — в деревню прибыла платформа, битком набитая индейцами-майя. Они били в звонкие барабаны и потрясали цветными луками и шершавыми стрелами.