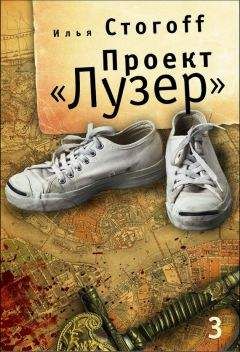Владислав Реймонт - Земля обетованная
А тот как ни в чем не бывало сидел с тростью в руке и насмешливо улыбался. Когда банкир немного успокоился, он стал посвящать его в свои планы.
— Мне уже тридцать лет… самое время начинать… У меня есть неплохой план, но для его осуществления нужны деньги. Сами знаете, посредничеством можно заработать на жизнь, но состояния не составишь. И так всегда приходилось прибегать к кредиту. И если почему-нибудь пришлось бы ликвидировать дело, у меня было бы несколько тысяч долга… А теперь я встану на ноги. Но раз вы дали мне деньги, я считаю своим долгом посвятить вас в свои планы. Дела Боровецкого совсем плохи, наличного капитала у него почти нет, и держится он только благодаря займам, причем у ростовщиков. Так вот, я дам ему деньги и при первой же возможности сделаюсь основным пайщиком. И в дальнейшем устрою так, что ему ничего другого не останется, как быть директором на своей фабрике… я уже все обдумал. А сорок тысяч, которые он вложил в дело, через год-два можно будет ему вернуть, так что он не потерпит убытка. За успех я ручаюсь, — спокойно говорил Мориц, подкрепляя свои доводы цифрами и посвящая собеседника во всевозможные хитрости и махинации, к которым он намеревался прибегнуть, чтобы окончательно добить Боровецкого.
Говорил он долго, откровенно и обстоятельно.
Банкир понемногу успокоился. Разглаживая бакенбарды, он потягивал носом, словно чуял запах падали, которой сможет поживиться. В глазах его появился блеск, на губах — улыбка. Увлекшись, он даже забыл, что на осуществление этого жульнического плана пойдут его кровные деньги. И от души одобрял аферу, поддакивал, давал советы, а Мориц подхватывал их на лету, развивал, вносил уточнения в свой проект, говоря при этом все тише и доверительней.
Банкир выпил воды и открыл форточку.
— Не выезжать со двора! — крикнул он рабочим, грузившим на подводы тюки с шерстью.
— Шерсть намокнет под дождем.
— Тебе говорят, скотина, подождать!
Захлопнув форточку и посмотрев на пасмурное небо, он начал что-то быстро писать.
Мориц сидел молча, глядя на мокнущие под дождем подводы с шерстью.
— Много веса не прибавится: мешковина новая… — сказал он равнодушно.
— Вы чересчур догадливы, — буркнул банкир и приказал покрыть мешки. Потом любезно предложил Морицу сигару и сказал: — Я хорошо знал вашего отца.
— Умный был человек, только обанкротился по-глупому.
— Да, не повезло… — сентенциозно заметил Гросглик.
— Ну как вам мой план?
— Ваша матушка доводилась мне кузиной, вы это знаете?
— Она торговала обрезками тканей и давала под залог деньги по мелочам.
— Вы на нее похожи… Красивая была женщина… Полная, видная… Послушайте, что я вам скажу. У вас котелок варит, а я люблю сообразительных молодых людей. Люблю помогать им, помогу и вам. Ваш план мне нравится.
— Я всегда считал вас разумным человеком.
— Итак, давайте заключим сделку.
— Деньги дадите?
— Дам.
— Мне потребуется солидный кредит.
— И это устрою.
— Давайте в таком случае поцелуемся!
— Лучше сто раз поцеловаться, чем один раз лишиться тридцати тысяч…
Они подробно обсудили условия сделки и выработали план действий.
— Итак, с этим покончено, теперь иду предложение делать.
— Невеста богатая?
— Меля Грюншпан.
— Надо бы немного подождать, пока утрясется дело с Гросманом.
— Напротив, сейчас они будут сговорчивей в расчете на мою помощь.
— Ты мне решительно нравишься, Мориц. Так нравишься, что я выдал бы за тебя свою Мери, будь она взрослой. Она получит сто тысяч в приданое.
— Мало.
— Подожди год, дам сто двадцать.
— Не могу. Через год меньше двухсот тысяч не возьму — иначе ждать не выгодно.
— Ну да ладно! Приходи в воскресенье обедать — будут гости из Варшавы, а потом обсудим с тобой одно дельце, которое сулит миллионы.
Они еще раз сердечно расцеловались, что не помешало банкиру напомнить Морицу о расписке в получении тридцати тысяч марок.
— Ты мне страшно нравишься! Я прямо-таки полюбил тебя! — восторженно воскликнул банкир, пряча расписку в несгораемую кассу.
Из конторы Мориц вышел вместе с Вильчеком, но в воротах какой-то человек с бандитской физиономией заступил его спутнику дорогу.
— Извините. Я зайду к вам завтра, а сейчас мне нужно поговорить с этим господином, — сказал Стах, поклонился и, сделав незнакомцу знак следовать за собой, зашагал с ним по Дзельной к железнодорожной станции.
XII
«Кто хочет, тот всего добьется, думал Мориц, шагая по улице. — Вот захотел, и в кармане у меня тридцать тысяч марок».
И он с чувством удовлетворения ощупал в кармане клеенчатый пакет.
«Захочу проглотить Боровецкого и проглочу вместе с его фабрикой и капиталом».
«Захочу жениться на Меле и — женюсь, непременно женюсь».
В эту минуту для него не было ничего невозможного.
Первая большая победа наполнила его гордостью и безграничной самоуверенностью.
«Действовать надо смело и решительно», — подумал он и с улыбкой посмотрел на солнце, которое весело поблескивало на мокрых от дождя крышах и тротуарах.
— Пожалуй, это стоит отметить, — сказал он про себя и остановился перед витриной ювелирного магазина.
Ему приглянулся перстень с большим бриллиантом, но цена подействовала на него отрезвляюще, и он вышел из магазина без покупки.
Вместо этого он купил в галантерейной лавке галстук и пару перчаток.
«Обручальное кольцо они мне так и так купят», — рассудил Мориц и направился к дому Грюншпанов с твердым намерением покончить со вторым — матримониальным — делом.
От свахи, которая исподволь обрабатывала семейство Грюншпанов, он уже знал о разрыве с Высоцким, а также об отказе Бернарду Эндельману, который сделал Меле предложение в письменной форме. Наверное, от огорчения он перешел в протестантство и собирался жениться на какой-то «французской обезьяне».
Знал он и о том, что сыновья нескольких крупных дельцов безуспешно ухаживали за Мелей.
«А почему бы, собственно, ей не согласиться выйти за меня?» — Он бессознательно посмотрел на свое отражение в витрине и остался собой доволен. В самом деле, он был интересный мужчина.
Погладив курчавую бороду и поправив пенсне, он пошел дальше, взвешивая свои шансы на успех.
Деньги у него есть, правда, не ахти какие, зато Гросглик обещал большой кредит, предрассудков он лишен начисто, значит, блестящее будущее ему обеспечено.
Меля была прекрасной партией и давно ему нравилась. Правда, есть у нее эта польская фанаберия, любит она порассуждать на отвлеченные темы, а благородство и благо ближнего ставит превыше всего, но это не требует больших расходов, а в гостиной производит хорошее впечатление. А сколько красивых слов произнес он сам в бытность свою студентом в Риге, как осуждал современное устройство общества и в продолжение двух семестров был даже социалистом, но это не мешает ему теперь весьма выгодно обделывать свои дела.
Размышляя таким образом, он улыбнулся, вспомнив испуганную физиономию Гросглика.
— Мориц, обожди!
Он обернулся.
— Ищу тебя по всему городу, — говорил Кесслер, пожимая ему руку.
— По делу?
— Нет. Хочу пригласить тебя на сегодняшний вечер к себе. Будет еще несколько человек.
— Что, попойка, как в прошлом году?
— Нет, дружеский ужин, беседа и… сюрпризы.
— Сюрпризы здешние?
— Привозные, но для любителей будут и здешние. Придешь?
— Ладно. А Куровского ты пригласил?
— Хватит с меня на фабрике этих польских скотов, и дома я не желаю их видеть. Корчит из себя аристократа и воображает, что оказывает тебе большую честь, подавая руку. Verfluchter,[58]— выругался он. — Ты куда идешь? Я могу тебя подвезти. Экипаж ждет.
— На Древновскую.
— Я только что видел Гросмана, его освободили под залог.
— Вот так новость! А я как раз к Грюншпанам собрался…
— Я подвезу тебя, только по дороге на фабрику заскочу.
— А что, эти сюрпризы с твоей фабрики?
— Надо кое-кого отобрать из прядильни.
— И они так прямо согласятся?
— Они у меня дрессированные. А впрочем, есть верное средство: не хочешь — получай расчет!
Мориц засмеялся. Они сели в экипаж и вскоре остановились перед зданием фабрики, совладельцами которой были Эндельман и Кесслер.
— Обожди минутку.
— Я пойду с тобой. Может, что-нибудь посоветую…
Они пересекли просторный двор и вошли в низкое строение с застекленной крышей, пропускавшей дневной свет; здесь помещались моечная, сортировочная, чесальный и прядильный цехи.
У длинных моек, из которых выплескивалась на пол вода, работали только мужчины; а из чесальни раздавались женские голоса, но при появлении Кесслера они тотчас стихли.