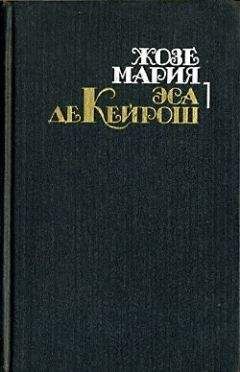Жозе Эса де Кейрош - Преступление падре Амаро
– Requiescat in расе.[161]
– Аминь! – заключили простуженный бас викария и дискант мальчика-певчего.
– Аминь! – откликнулись провожающие, и рокот их голосов, прошумев, затерялся в ветвях кипарисов, среди трав и надгробий, в холодном тумане пасмурного декабрьского дня.
XXV
В конце мая 1871 года в Лиссабоне, возле Гаванского Дома[162] на Шиадо царило небывалое оживление. Подбегали, тяжело дыша, взволнованные люди, пробивались через толпу, осаждали подъезд, привставали на носки, вытягивали шею, чтобы сквозь частокол цилиндров разглядеть вывешенную на перилах балкона доску с телеграммами агентства «Гавас». Из толпы в обратном направлении выбирались господа с расстроенными, изумленными лицами и сообщали кому-нибудь из приятелей, решивших лучше ждать поодаль:
– Все погибло! Везде пожарища!
В жавшейся под балконом толпе испытанные говоруны вели жаркие споры; по всему бульвару вплоть до площади Лорето и по Шиадо до кафе Магальяэнса в теплом воздухе раннего лета стоял сплошной гул голосов; то и дело над ним взмывали яростные выкрики: «Коммунары! Версаль! Поджигатели! Тьер! Злодейство! Интернационал…» – и снова все перекрывал грохот колес а голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренные выпуски газет.
Каждый час прибывали свежие телеграммы с новыми подробностями восстания и боев на улицах Парижа. Страшные сообщения из Версаля говорили о пылающих дворцах, взорванных улицах, массовых расстрелах во дворах казарм и среди склепов на кладбищах, о беспощадных погонях, кончавшихся расправой в подземных клоаках Парижа, о роковом безумии, помрачившем разум тех, кто носит военный мундир, и тех, кто носит рабочую блузу, о нескончаемой агонии сопротивления повстанцев, которые в уличной борьбе пользовались средствами науки и взрывали старое общество динамитом а нитроглицерином! Устрашающая конвульсия, конец света – и эта картина возникала из нескольких газетных строчек, точно при вспышке молнии или в багровом пламени костра.
Весь Шиадо оплакивал разрушение Парижа и ужасался. Лиссабонские господа, вспоминая сожженные здания, возмущенно восклицали: «Отель де Виль» – такая красота! Рю-Руайяль – такое великолепие!» Некоторые так негодовали на поджог Тюильрийского дворца, будто сгорела их личная резиденция; те, что прожили в Париже два-три месяца, воздевали руки к небу, словно Богатства великого города были их собственностью; они не прощали коммунарам гибель того или иного памятника старины: ведь по этим камням успел скользнуть взор заезжего лиссабонца!
– Вы только подумайте! – восклицал толстый господин. – Разрушен дворец Почетного легиона! Да еще месяца нет, как мы с женой побывали там!.. Ужасно! Какое варварство!
Но вот разнесся слух, что кабинет министров получил новую, еще более страшную телеграмму: вся линия бульваров, от площади Бастилии до площади Мадлен, в огне; горит площадь Согласия, горят Елисейские поля, все пылает вплоть до самой Триумфальной арки. В приступе безумия революция стерла с лица земли единственную в своем роде систему ресторанов, кафе-концертов, танцевальных залов, игорных и публичных домов. Весь Шиадо скорбел. Пламя пожара истребило самое комфортабельное в мире гнездо разврата! Варварство! Светопреставление! Где можно было поесть, как в Париже? Где можно было найти таких опытных женщин? Где можно было увидеть такую поражающую вереницу изящных колясок, как в Булонском лесу, в холодные, но солнечные зимние дни, когда виктории кокоток соперничали с фаэтонами биржевых дельцов! Какое злодейство! О библиотеках и музеях никто не вспоминал; зато о разрушенных кафе и публичных домах скорбели искренне и глубоко. Конец Парижа! Конец Франции!
В одной из групп, толпившихся возле Гаванской табачной лавки, шел политический спор; часто упоминали имя Прудона, который рисовался воображению лиссабонцев каким-то кровавым чудовищем; во всем винили Прудона.[163] Чуть ли не все считали, что он-то и поджигает Париж. Правда, некий уважаемый в городе поэт, автор «Цветов и вздохов», счел своим долгом признать, что, «если оставить в стороне его завиральные идеи, Прудон совсем не плохой стилист». Игрок Франса, услышав это, завопил:
– Да какой он, к дьяволу, стилист! Попадись он мне на Шиадо, я бы ему все кости переломал!
И переломал бы. После рюмки коньяку Франсе сам черт был не брат!
В то же время иные юноши, в которых драматизм событий задевал романтическую струнку, восторгались героизмом коммунаров. Верморель,[164] раскинув руки, как распятый Христос, кричал под дулами ружей: «Да здравствует человечество!» Старик Делеклюз,[165] словно фанатичный святой, со смертного ложа давал приказы о беспощадной борьбе до конца…
– Это великие люди! – восклицал какой-то восторженный юнец.
Солидные господа на него рычали. Другие, побледнев, отходили подальше: они уже видели, как по стенам их домов в Байше[166] текут струи керосина и сам табачный магазин объят языками пламени от руки социалистов. Толпа с остервенением требовала твердой власти и беспощадных репрессий: общество, ставшее жертвой Интернационала, обязано сплотиться вокруг своих древних идеалов, защитить их стеной штыков! Торговцы галантерейными товарами говорили о «плебсе» с высокомерием какого-нибудь де ла Тремуй[167] или Осуны.[168] Ресторанные завсегдатаи, ковыряя во рту зубочистками, требовали кровавой расправы. Праздные гуляки негодовали на рабочего, который захотел «жить, как вельможа». Слова «собственность» и «капитал» произносились с почтением.
Им противостояли говорливые молодые люди, разгоряченные газетные хроникеры, которые произносили речи против старого мира и старого мировоззрения, угрожая смести все-все при помощи газетных статей.
Заскорузлая буржуазия мечтала силами полиции остановить ход истории, а молодежь, вскормленная на литературе, надеялась несколькими фельетонами разрушить общество, насчитывающее восемнадцать веков. Но никто не бушевал так, как счетовод из гостиницы: стоя на верхней ступени подъезда, он потрясал в воздухе тростью и требовал немедленно восстановить на престоле Бурбонов.
В эту минуту какой-то человек, весь в черном, вышел из табачной лавки; он проталкивался через толпу, когда услышал рядом удивленный возглас:
– Падре Амаро! Ты, разбойник?
Тот обернулся и увидел каноника Диаса. Они дружески обнялись и, чтобы спокойно поговорить, пошли к площади Камоэнса и остановились у подножия памятника.
– А дорогой учитель давно в Лиссабоне?
Каноник прибыл только вчера по случаю тяжбы с Пиментой из Пожейры, арендовавшим часть его усадьбы; каноник передал дело в высшую инстанцию и приехал в столицу, чтобы лично следить за процессом.
– А ты, Амаро? В последнем письме ты говорил, что хочешь перевестись куда-нибудь из Санто-Тирсо?
Совершенно верно. Место в Санто-Тирсо имеет свои преимущества, но открылась вакансия в Вила-Франке, и падре Амаро захотелось перебраться поближе к Лиссабону. Вот он и приехал в столицу, чтобы поговорить об этом с сеньором графом де Рибамар, с милым графом, который теперь хлопочет о его переводе. Падре Амаро всем обязан графу и особенно графине!
– А что нового в Лейрии? Сан-Жоанейре лучше?
– Нет… Бедная женщина! В первый момент, знаешь, мы совсем перепугались. Думали, она погибнет вслед за Амелией. Но ничего, пронесло; однако открылась водянка… Так что теперь главное – водянка.
– Жаль ее, добрая старушка. А как Натарио?
– Постарел! У него были большие неприятности. Пострадал за язык.
– Вот как, вот как… А скажите, дорогой учитель, что поделывает Либаниньо?
– Я же тебе писал, – сказал каноник и ухмыльнулся.
Падре Амаро тоже засмеялся; оба священника несколько секунд хохотали, держась за бока.
– Все это оказалось чистой правдой, – продолжал каноник. – Скандал был грандиозный. Вообрази, дружище, его поймали с сержантом, и в такой позе, что не оставалось никаких сомнений. В десять часов вечера, в Тополевой аллее! Нарушение общественных приличий… В конечном счете, дело замяли, и, когда умер Матиас, мы отдали нашему дуралею должность псаломщика. Это теплое местечко. Гораздо доходней, чем его прежняя служба в конторе. Так что он будет трудиться усердно!
– Конечно, он будет стараться, – вполне серьезно согласился падре Амаро. – А как поживает дона Мария де Асунсан?
– О ней, брат, болтают такое! Взяла в дом молодого лакея. Раньше он был плотником и жил напротив нее. Парень отъелся, ходит этаким фертом…
– Не может быть!
– Заделался настоящим денди. Сигара, часы, перчатки! Уморительно, правда?
– Очарование!
– У сестер Гансозо все по-прежнему, – продолжал каноник, – теперь к ним поступила твоя бывшая кухарка. Эсколастика.