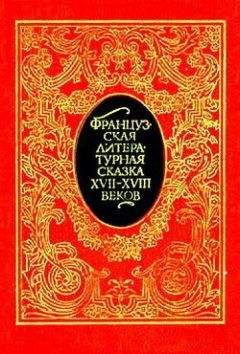Франсуа Фенелон - Французская повесть XVIII века
Министр был в Париже. Его особняк находился совсем рядом. От улицы святой Маргариты до него было очень близко. Танье пошел к министру и дал свое согласие. Он вернулся с сухими глазами, но со стесненным сердцем.
«Сударыня, — сказал он ей, — я видел господина Морепа и дал ему слово. Я уеду, уеду, и вы будете довольны». — «Ах, мой друг!..»
Госпожа Реймер отодвигает пяльцы, бросается на шею к Танье, осыпает его ласками и нежными словами: «Ах, теперь я вижу, что я вам дорога».
Танье холодно ей ответил: «Вы хотите стать богатой…»
— Негодяйка, она была в десять раз богаче, чем того заслуживала!..
«…вы будете богаты. Раз вы любите золото, я поеду искать для вас золото».
Это было во вторник, а министр назначил его отъезд на пятницу, без всякой отмены. Я пришел к ним проститься, когда он боролся с самим собой и старался вырвать из своего сердца образ красивой, недостойной и жестокой Реймер. Это было такое смятение мыслей, такое отчаяние, такая скорбь, каких я никогда больше не видел. Он не жаловался, у него исходила болью душа. Госпожа Реймер лежала еще в постели. Он держал ее за руку, беспрестанно повторяя:
«Жестокая женщина! Какая жестокая! Что тебе еще нужно, кроме достатка, который у тебя есть, друга, любовника — такого, как я? Я ездил добывать для нее богатство в палящие страны Америки; теперь она хочет, чтобы я отправился за ним на ледяной север. Друг мой, я чувствую, что эта женщина безумна, что я глупец, но мне легче умереть, чем ее огорчить! Ты хочешь, чтобы я тебя оставил, я тебя оставлю».
Он стоял на коленях у ее кровати, припав губами к ее руке и зарыв лицо в одеяло, и его заглушенный голос становился от этого еще печальнее и страшнее. Дверь комнаты отворилась, он быстро поднял голову и увидел входившего почтаря, который сообщил, что лошади уже поданы. Танье вскрикнул и снова спрятал лицо в одеяло. После минутного молчания он встал и сказал своей подруге:
«Поцелуйте меня, сударыня. Поцелуй меня еще раз, потому что ты меня больше не увидишь!»
Его предчувствие в точности оправдалось. Он уехал. Прибыв в Петербург,{226} он через три дня заболел лихорадкой, от которой и умер на четвертый день.
— Я знал это.
— Быть может, вы были один из преемников Танье?
— Вы угадали, и из-за этой ужасной красавицы я расстроил свои дела.
— Бедный Танье!
— Найдутся люди, которые назовут его глупцом.
— Я не стану его защищать, но пожелаю от всего сердца, чтобы злой рок столкнул их с женщиной такой же красивой и такой же коварной, как госпожа Реймер.
— Вы жестоки в своем мщении.
— И потом: если есть злые женщины и очень добрые мужчины, то точно так же есть женщины очень добрые и мужчины очень злые; и то, что я собираюсь вам рассказать еще, не более сказка, чем все предыдущее.
— Я в этом убежден.
— Господин д’Эрувиль…{227}
— Тот, который еще жив? Генерал-лейтенант королевской армии? Тот, который женился на этой прелестной Лолотте?
— Он самый.
— Что же, он светский человек, друг наук.
— И ученых. Он долго занимался историей войн всех веков и всех народов.
— Обширный замысел!
— Чтобы его выполнить, он собрал вокруг себя нескольких выдающихся молодых людей, как, например, господин де Монтюкла, автор «Истории математики».{228}
— Черт возьми! Много ли было у него людей с такими способностями?
— Но тот, кого звали Гардейль,{229} герой приключения, о котором я вам собираюсь рассказать, ничуть не уступал ему в своей области. Общая страсть к изучению греческого языка положила начало сближению между мной и Гардейлем, а время, общность интересов, любовь к уединению и в особенности возможность часто видеться привели нас к довольно тесной дружбе.
— Вы жили тогда на Эстрападе.{230}
— Он жил на улице святого Гиацинта, а его подруга, мадемуазель де Ла-Шо, на площади святого Михаила. Я называю ее настоящим именем потому, что бедняжки уже нет в живых, а жизнь ее может внушить к ней только уважение всех почтенных людей и вызвать сочувствие и слезы тех, кого природа наградила — или наказала? — лишь небольшой долей ее чувствительности.
— Но ваш голос прерывается, и мне кажется, что вы плачете.
— Мне все еще представляется, что я вижу ее большие черные глаза, блестящие и нежные, и что трогательный ее голос раздается у меня в ушах и волнует мое сердце. Очаровательное создание! Уже более двадцати лет прошло с тех пор, как тебя нет, а мое сердце все еще сжимается при воспоминании о тебе!
— Вы ее любили?
— Нет. О Ла-Шо! О Гардейль! Вы оба были изумительны. Вы — идеал женской нежности, вы — мужской неблагодарности.
Мадемуазель де Ла-Шо происходила из хорошей семьи. Она покинула своих родителей, чтобы броситься в объятия Гардейля. У Гардейля не было ничего, мадемуазель де Ла-Шо обладала небольшим состоянием; и это состояние было принесено в жертву нуждам и прихотям Гардейля. Она не сожалела ни о своем утраченном богатстве, ни о своей поруганной чести. Ее возлюбленный заменял ей все.
— Этот Гардейль был, значит, очень обольстителен, очень любезен?
— Ничуть не бывало. Маленький, ворчливый, мрачный, язвительный; сухое смуглое лицо, очень невзрачное; некрасив, насколько это возможно для мужчины с умным лицом.
— И такой человек вскружил голову прелестной девушке?
— Вас это удивляет?
— Разумеется.
— Вас?
— Меня.
— Но разве вы не помните свою историю с Дешан и то глубокое отчаяние, в которое вы впали, когда эта тварь выгнала вас?
— Оставим это; продолжайте…
— Я говорил вам: «Она, значит, очень красива?» Вы мне грустно отвечали: «Нет». — «Значит, очень умна?» — «Она просто дура». — «Значит, вас привлекают ее таланты?» — «У нее только один». — «А в чем же заключается этот редкий, удивительный, необыкновенный талант?» — «Заставлять меня испытывать в ее объятиях такое счастье, какого я не знал ни с одной женщиной!» Мадемуазель де Ла-Шо, честная, чувствительная, надеялась втайне, невольно и безотчетно, на счастье, испытанное вами, то счастье, которое заставляло вас говорить о Дешан: «Если эта негодяйка, эта злодейка, будет по-прежнему гнать меня от себя, я возьму пистолет и пущу себе пулю в лоб в ее передней». Говорили вы это или нет?
— Я это говорил — даже сейчас не знаю, почему этого не сделал.
— Согласитесь же…
— Соглашаюсь со всем, что вам угодно…
— Друг мой, даже самый мудрый из нас должен быть очень счастлив, если не встретил на своем пути женщину — красивую или безобразную, умную или глупую, — которая лишила бы его разума и довела до Петит-Мезон.{231} Будем же горячо сожалеть мужчин, будем умеренно их порицать, будем смотреть на прожитые нами годы, как на время, в которое нам удалось избежать преследования злого рока, и пусть вечно внушают нам содрогание обольщения природы, столь опасные для горячих сердец и пламенного воображения. Искра, падающая случайно на бочку с порохом, не производит более губительного действия. Рука, готовая уронить на вас или на меня эту искру, может быть уже занесена.
Господин д’Эрувиль, желая скорей окончить свой труд, доводил до изнеможения своих помощников. Здоровье Гардейля пострадало от этого. Чтобы облегчить его работу, мадемуазель де Ла-Шо изучила еврейский язык. И в то время, когда ее друг отдыхал, она проводила часть ночи за переводом и перепиской отрывков из еврейских авторов. Настало время делать выписки из греческих авторов. Мадемуазель де Ла-Шо поспешила усовершенствоваться в этом языке, в котором у нее были некоторые познания; и, пока Гардейль спал, она занималась переводами и перепиской отрывков из Ксенофонта и Фукидида.{232} Кроме греческого и еврейского языков, она знала также итальянский и английский. Английским она владела настолько хорошо, что перевела на французский первые метафизические опыты Юма{233} — произведение, в котором трудность предмета усугубляется трудностью языка. Когда научные занятия утомляли ее, она принималась за переписку нот. Чтобы ее любовник не соскучился с ней, она пела для него. Я ничего не преувеличиваю, могу сослаться на господина Ле-Камю,{234} доктора медицины, который утешал ее в горестях и помогал в бедности, оказывал ей множество услуг, навещал на чердаке, куда ее загнала нужда, и закрыл ей глаза, когда она умерла. Но я не упомянул еще об одном из первых ее несчастий — о преследовании, которому ее подвергла семья, возмущенная этой открытой и скандальной связью. Была пущена в ход правда и неправда, чтобы бессовестным образом лишить ее свободы. Родные и священники преследовали ее из квартала в квартал, из дома в дом и довели до того, что она многие годы прожила в одиночестве и скрываясь от всех. Целыми днями она работала для Гардейля. Мы являлись к ней поздно вечером, и присутствие любовника рассеивало все ее огорчения и тревоги.