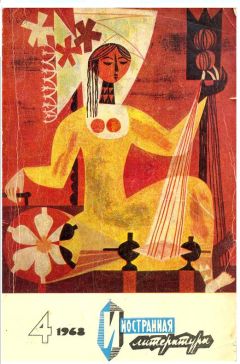Альваро Кункейро - Человек, который был похож на Ореста
«Не знаю, когда я смогу закончить второй акт, — говорит себе Филон, — но эту тяжелую поступь Ореста я не забуду…»
VII
— Нанести безупречный двойной удар можно, лишь умея мысленно проводить параллельные линии, — пояснял фехтовальщик, рассекая воздух рапирой. — Обычно во время дуэли, по крайней мере в нашем городе, дерутся до первой крови. Один укол — какая ерунда! Но если надо прикончить кого-то или ты на войне — тут только двойной удар поможет внезапно повторить атаку и добиться цели: первым ударом ранишь врага, быстро вытаскиваешь шпагу, он сгибается, и тогда надо, отойдя чуть вправо, поразить его снова. Главное — второе движение должно быть параллельно первому; если тебе это удалось, ты попадаешь прямо в сердце. В моем доме геометрия прежде всего: треугольники, тангенсы, прямые углы — именно так надо ставить ноги, — ну, и конечно, параллельные линии в воздухе, повторяю вам: мой излюбленный прием — двойной удар.
Фехтовальщик был человеком не слишком высокого роста и носил башмаки на каблуках. Нос его отличался необычайной подвижностью, и ему очень льстило, если посетители обращали внимание на эту особенность его физиономии. Тогда он принимался объяснять, что именно обоняние — основа интуиции и что его нос всегда следил за мельканием шпаги куда лучше, чем глаза, а потому приобрел столь удивительную способность двигаться и даже вращаться.
— В большинстве случаев, — заканчивал маэстро свои объяснения, — я узнаю, где промежуток между ребрами и удалось ли мне попасть в цель, по тому, как подергивается мой нос.
Тут фехтовальщик нежно поглаживал сей важный придаток своего лица: тонкий, белый, словно из мрамора, с широкими ноздрями и острым кончиком.
Прочитав однажды «Трех мушкетеров», он стал носить прическу а-ля Арамис, только волосы у него были светлее. Наш забияка казался очень худым и нервным, а трагический взгляд выдавал в нем человека, всегда готового врачевать свою честь, если кто ее ранит, но лишь одним-единственным доступным ему средством — стальным клинком. Со шпагой фехтовальщик не расставался, и когда в дом заходили чужестранцы, он встречал их, одетый в черное, под собственным портретом, написанным маслом, где был изображен в той позиции, с которой начинал урок: правая нога чуть согнута, обнаженная шпага поднята вверх в знак приветствия. Звали героя Кирино, и ему принадлежал единственный в городе фехтовальный зал. Молодежь в последние годы потеряла всякий интерес к его искусству и с большим удовольствием стреляла в тире из луков и ружей.
Дону Леону хотелось посмотреть развалины старого моста, он объяснил Тадео, что видел однажды гравюру, изображавшую это место: на ограде первого пролета сидит человек с гитарой и перебирает струны. Но вечер выдался дождливым, и задуманную прогулку пришлось отложить. И вот тогда нищий посоветовал чужестранцу заглянуть в зал Кирино. По правде говоря, Тадео не терпелось узнать, хорошо ли его друг в синем камзоле владеет шпагой, ведь по городу ходили слухи, что удар Ореста, когда тот явится для отмщения, будет неотразим и могуч.
— Я не столь искусно владею шпагой, как ты, — сказал дон Леон Кирино, — у меня все просто, по-военному; мне удалось освоить лишь чуть побольше, чем «защита-выпад, а потом — наоборот». Надо тебе сказать, в моей стране никто не видел учебной рапиры, никаких дуэлей из-за вопросов чести нет, а геометрия — это искусство землемеров, которым поручается размежевывать поля после наводнений. Моя наука состоит в том, — добавил чужестранец, — что я беру широкий обоюдоострый меч и раскручиваю его в воздухе, а сам смотрю на шею врага и в какой-то миг наношу удар с пол-оборота, да не колю, а рублю, как палач своим топором.
Кирино захотелось посмотреть, насколько ловко его гость владеет оружием; он поставил посреди зала манекен из набора — фехтовальщику была пожалована королем монополия на их изготовление — и протянул дону Леону большой двуручный меч с желобком миланской работы. Гость взял его, примерился и встал прямо перед огромной куклой. Он то ловко делал выпад, словно нападая, то, напротив, отступал, защищаясь, то поднимал с изяществом танцовщика левую руку и кружил возле манекена, быстрый как молния и уверенный в себе. Сеньор Кирино, держа куклу за талию, перемещал ее по комнате, все время оказываясь вне пределов досягаемости нападавшего. Но вот, когда он в очередной раз передвигал манекен, пытаясь зайти со спины человеку в синем камзоле, тот одним движением корпуса оказался в нужной позиции и обрушил страшный удар справа налево на шею своего противника из папье-маше. Голова с ярко-красными щеками безжизненно упала на грудь куклы, покачалась несколько мгновений, потом оторвалась совсем и покатилась на пол. Тадео захлопал в ладоши, а Кирино похвалил удар:
— Magister meus![17] Превосходно! И это при том, что меч-то — зазубренный!
Воодушевившись, Кирино встал одной ногой на огромную голову — поза для низкорослого маэстро оказалась весьма неудобной, однако он вытащил шпагу из ножен и оперся на нее, ожидая восторга зрителей, словно был победителем Голиафа и весь ликующий народ Израиля собрался приветствовать своего избавителя.
Кирино велел согреть воды для купания своему слуге-финну, который считался знатоком различных гигиенических процедур, а сам тем временем предложил гостям сладкого вина и, хотя в зале стояло предостаточно стульев, уселся на голову манекена.
— Мой отец, царствие ему небесное, — рассказывал фехтовальщик дону Леону, — обучал рыцарей Прованса искусству владения шпагой в конном и пешем бою и славился там как мастер своего дела. Звали его сеньор Элисио, и он говорил, что осваивать верховую езду ему помогал один кентавр, оставшийся не у дел, — на его слова вполне можно положиться, ибо отец был не из тех, кто любит приврать. Он каждый день жарил себе отличный, свежий чеснок, стараясь выбрать самый лучший, а такого, как в Провансе, нигде не найти — вот мой родитель и переехал туда. Для людей нашей профессии ревматизм губителен, все кости и суставы у нас должны двигаться свободно, а потому я тоже прибегаю к этому чудесному средству осенью. Отец обучил своему искусству большинство благородных сеньоров Прованса и в мае выезжал с ними за город; там на просторе они изображали битвы с войсками императора или герцога Савойского. Как-то раз, когда папа с виконтом де Бос, оставив позади остальных всадников, проезжали через сосновый бор, они встретили женщину, которая, крича, бежала им навстречу. Она держала за руку беленькую хорошенькую девочку лет пятнадцати. Отец с виконтом расспросили беглянок о причине их слез, и мать, заставив юное создание опуститься на колени перед господами, рассказала о страшном драконе, что появился в их краях. Чудовищу приспичило заполучить сей дивный цветок ее чрева в служанки, ибо оно постепенно слепло и решило зарабатывать себе на хлеб, изображая повсюду от Германии до Каталонии ярмарочных драконов. Если же дочку не отдадут ему добром, то он ворвется в деревню, все спалит и всех сожрет. Мой отец велел женщине спрятаться, виконту поручил укрыть девушку в его огромном замке, а сам решил сразиться с драконом. Так они и сделали: де Бос дал несчастной матери десять серебряных эскудо в залог, распрощался, посадил девушку сзади себя на лошадь и увез, а папа с копьем наготове помчался на поиски дракона. Но оказалось, приехал он слишком поздно. Утром того самого дня дракон отправился на цветущий луг, где всегда встречался с одним слепцом, который давал ему уроки пения — в качестве платы за обучение чудовище обещало сказать, куда оно запрятало скрипку Гварнери. Дело быстро шло на лад: у дракона обнаружился неплохой слух и нежный голос. Ну так вот, когда подслеповатое чудовище возвращалось с урока, то сорвалось в ущелье, спускавшееся к морю; и теперь его зловонная туша лежала у берега, наполовину скрытая водой, и между волн виднелась огромная голова с разинутой пастью — зеленый язык высовывался из-за голубоватых зубов. С тех пор отец только и думал о том, чтобы сразить какого-нибудь дракона, и мечтал, как из самого Авиньона приедет художник, мастер изображать чудеса, и запечатлеет его рядом с поверженным чудищем — левая нога героя попирает ужасную голову. Отец не смог осуществить свою мечту и оттого умер. Когда несчастный бредил, людям в треугольных шлемах было небезопасно переступать порог нашего дома; он принимал их за драконьих детенышей — они вылупляются из яйца как раз такими: с гребешком, покрытым перьями. Больной бросался на них с копьем, звал художника увековечить его подвиг и требовал, чтобы я принес ему алые гетры. Ваш покорный слуга унаследовал от отца, мечтавшего о сражениях с чудовищами, желание выйти когда-нибудь на честнóй бой и быть изображенным затем на картине, написанной маслом: страшная голова под левой пятой героя, — как всем артистам, мне нравится позировать. Вот и сейчас я не мог удержаться от небольшой репетиции, когда голова гигантской куклы покатилась на землю.