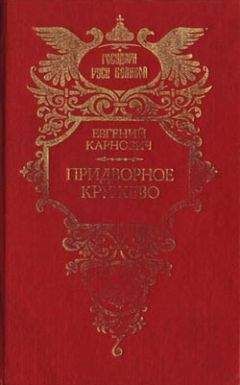Аркадий Савеличев - Генерал террора
Всё же афишировать свои симпатии перед министром Латвийского уезда Савинков не хотел. Деловито и отчуждённо, разумеется на французском, потребовал:
— Двух девочек, мадам. Симпатичных.
Девочки не замедлили явиться на зов хозяйки. Были они само собой русскими; само собой с французскими именами — Жаклин и Луиза.
Савинков жестом завсегдатая выбор предложил сделать другу-министру. Тот хоть и был где-то женатым, но в скитаниях по Европам, видно, проголодался, не стал привередничать, а просто выдернул за руку более упитанную Жаклин и отбыл в её служебный альков.
Не стоило подводить хозяйку перед её девочками — всё-таки легки на язык, как и на всё остальное. Он приобнял доставшуюся ему Луизу, тоже увёл следом по коридору. Расположение двух этих совмещённых квартир он знал хорошо. Друзья российские приезжали, варшавские и бог знает ещё какие.
Надо отдать должное мадам Катрин — содержала она своих девочек в чистоте и порядке. Кровать с белоснежными простынями, уже предупредительно раскрытая. Цветы на ночном столике. Бутылка вина и печенье на столе обеденном. Розовый халатец на вешалке, в который Луиза без лишних слов и облачилась. Да они и не говорили ничего — слова здесь недорого стоили, за слова посетители не платили. Единственное, что спросил Савинков:
— По-русски?
Луиза утвердительно кивнула.
— Откуда, если не секрет?
— Из Пскова.
— Значит, мы псковские?
Опять только кивок подвитой головки, надо сказать, совсем не дурной. Зря военный министр изголодавшейся Латгаллии поспешил броситься на толстушку.
— Да умеешь ли хоть ты говорить, дорогая?
— Умею. Я на Высших женских курсах училась.
— Бестужевка?
— Лучше сказать — бесстыдница, — впервые улыбнулась она, да так хорошо, что Савинков решил изменить своей приятельнице-хозяйке.
Он выпил вина и стал неторопливо раздеваться. Железо мешало, в эти минуты полузабытое. Браунинг даже брякнулся на пол.
— Я не ограблю вас. Сложите свою артиллерию... сюда хотя бы, — указала она на близкий подоконник.
Савинков поймал себя на мысли, что ему приятно повиноваться.
— Располагайтесь... пока... Я быстренько.
С чего-то поёживаясь, Луиза промела полами халатика до ширмы и скрылась за ней. Оставалось только удивляться: надо же, здесь ещё стесняются!
Вернулась враспашку, ко всему открыто готовая. Халатец ничего не скрывал, только подчёркивал алой прозрачностью какую-то скрытую обречённость.
— Мне за ночь полагается обслужить двух клиентов, — объяснила она свою расторопность.
— Полагается так полагается. Вторым тоже буду я.
Савинков никогда не увлекался борделями, имел в виду их про запас разве что для Бронштейнов да министров самостийных уездов, но тут было что-то и от увлечения. Он поцеловал, уже в кровати, молчаливо изготовившуюся Луизу и спросил:
— Вы чего-то боитесь?
— Да, — был скорый ответ.
— Я вправе спросить — чего?
— У меня первый рабочий день... ночь, вернее... Не удивляйтесь, в свои двадцать лет я всё ещё девочка. Мадам Катрин этого не знает. Пожалуй, она и на работу меня не взяла бы. Не выдавайте.
— Я, конечно, не выдам, — поразился Савинков непредвиденному случаю, — но я не хочу приобщать вас к лику падших женщин.
— Не вы, так другой. У меня нет выхода. Отца-подполковника застрелили в нашем имении у меня на глазах, мать изнасиловали, и она тут же повесилась. А я убежала... У меня быстрые ноги.
— Быстрые... о, господи. Значит, я?
— Не вы, так какой-нибудь пьяный русский купчик... прогнивший парижский Гобсек.
— Всё-то вы знаете!
— Говорю же, я бестужевка. Я много читала и размышляла о своей женской доле... Доля, нечего сказать, — она расплакалась.
Савинков вытер ей глаза подолом своей рубашки и, повеселев, сказал:
— Вы убедили меня. Не будем ханжить.
— Не будем. Делайте своё дело... поосторожнее, пожалуйста.
Савинков знал, что при всей зачерствелости души он будет мучиться угрызениями совести. Но не бежать же от такого сладкого греха?
Почему-то вспомнилась первая любовь, первая жена, Вера Глебовна, — он даже не знал, где она сейчас обретается, — и те давние очень похожие слова: «Не делай мне больно, я боли боюсь».
Боль! Всё это пустое. Боль тела проходит — остаётся только боль души, уже основательно захламлённой, и с этим не удастся справиться даже ему, человеку твёрдокаменному, как утверждают доброхоты...
Утром он одевался не без сожаления. На него смотрели детские, — как он этого раньше не заметил? — но счастливые глаза. Украдкой подсунул под вазу с цветами немного денег. Но взгляд Луизы остановил его руку:
— Мадам Катрин запрещает самим принимать плату.
— Это не плата, Луиза... это чёрт знает что! — застигнутый на добром жесте, всё же не остановился он. — Прощайте — пока. Мы ещё свидимся.
Не успел он выйти и осмотреть себя в большое коридорное зеркало, как к нему навстречу выскочила мадам Катрин. Но что с ней стало!
— Надеюсь, сыты-сытнехоньки? — как с горы, осыпала его бешеным каменьем.
— Сытёхонек, мадам, — парировал он.
— Я всё слышала. Ах, прохвостка! Ах, целочка-пострелочка! Как меня вокруг жопы обвела!.. Поди, ещё и восемнадцати-то нет? Отвечай за неё.
— Ну, княжна, ну, соглядательница! Вам бы в полиции работать.
— Работала, пока была полиция. Сейчас устраиваю свою личную жизнь. Вероятно, вы устали, вам не до меня.
— Устал, верно, — взял Савинков в прихожей пальто и шляпу. — Мой друг уже отработался?
— С ним отработали, как надо. Без затей и церемоний.
— Вот и прекрасно. — Он положил плату в приготовленную для того хрустальную вазу. — Надеюсь, вы не станете из ревности отыгрываться на бедной Луизе?
— Не стану. Я просто вышвырну её на улицу.
— А вот этого не следует делать, — сказал Савинков, плохо веря в действенность своих слов.
Улица встретила его дождём и снегом. Он представил, каково-то будет бестужевке на зимней, слякотной парижской улице, и крепче надвинул шляпу на глаза. Мало холод, так ещё и ветер сумасшедший.
Из снежно-дождевой замяти проглянула полуживая женская тень:
— Мосье, со мной вы будете довольны.
Выговор был ужасный, рязанско-вологодский.
Он сунул ей, что попало под руку, и скорым шагом пошёл в гостиницу. На авто сейчас нельзя было рассчитывать.
Начиналось утро. Серое, как сами промокшие дома. Каким-то будет очередной день?..
VII
Все эти зимние месяцы он болтался между Парижем и Лондоном, между Варшавой и Прагой, Римом и Берлином, постоянно возвращаясь всё-таки в Париж. Здесь — центр Европы; отсюда близко до любой столицы... исключая, конечно, Петроград и Москву. Но что Москва — каждый российский городишко теперь мог стать столицей; в Омске адмирал Колчак, как-никак верховный правитель России, от имени которого он и мотался по Европам. Но негласно — и от имени генерала Деникина, который своей южной столицей выбирал то Ростов, то Екатеринодар, то Новороссийск, а то и затюханную станицу Тихорецкую. Был где-то со своей чухонской ставкой генерал Юденич. Был ещё один адмирал — барон Врангель, пока что отогревался в благословенном Крыму... Был даже какой-то «батька Махно», этот все свои ежедневно меняющиеся столицы возил на пулемётной тачанке!.. Была ещё и Одесса; о неё все, кому не лень, вытирали ноги. Не говоря уже о Варшаве; там-то как раз и собирались прежние други-приятели, болтуны несчастные! Будто не знают: поляки не прочь покричать на своих подбитых голодным ветром площадях, но палец о палец не ударят, чтобы помочь российскому воинству. В Варшаву, чувствуя близость его, Савинкова, перебирались и Чернов, и Авксентьев, и Философов, и, конечно же, братик-нахлебник Виктор. От старшего брата ему перепадало, а чем платить? Скандалами! Да всё той же болтовнёй, под векселя изнемогшего уже от долгов Бориса. Савинков никогда не смешивал свои и заёмные деньги, но как не порадеть родному человечку?
Была ещё и сестра Вера в Праге. Она тоже помоталась по европейским градам и весям, прежде чем Прага стала её пристанищем.
Вера — хранительница семейного очага Савинковых. После лондонских унижений самое время зализать раны... хотя какое там — плевки!
Спрашивает осторожно:
— Ну, как там поживает сэр Уинстон Черчилль?
Знает, что брату нечего отвечать, что брат там больше месяца не бывал, — спрашивает ради красного словца. В этой европейской сумятице даже военный министр Англии может подавиться своей сигарой. Савинков по-настоящему ценил и уважал — да, уважал! — Черчилля, а смог получить от него немного. И это при всём при том, что телеграммы верховного правителя криком кричали: «Пушек! Пулемётов! Сапог! Шинелей!..» Но добропорядочный англичанин и своему министру ни фунта не даст, если не почувствует наварных процентов. Кто может эти проценты гарантировать? Генерал Деникин ближе адмирала, но и его письма криком исходили. Хитромудрый Черчилль не зря же в своих разговорах как бы ненароком подсовывал депеши Деникина; русский генерал очень искренне отзывался о начальнике английской военной миссии: