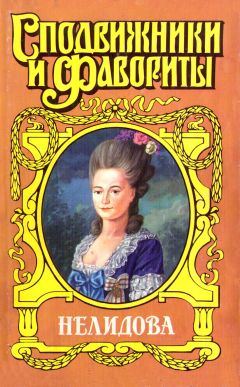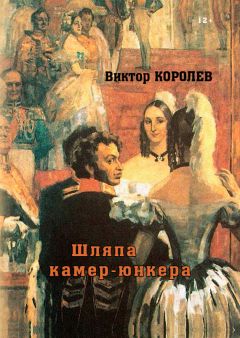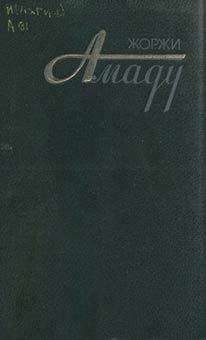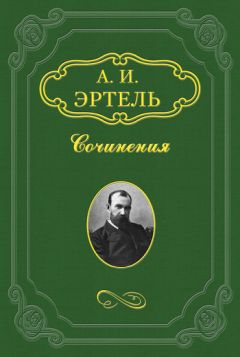Алла Панова - Миг власти московского князя
В горнице, освещенной последними лучами заходящего солнца, князь увидел Марию. Она, испуганно глядя на него, поспешно поднялась с лавки и замерла, словно боялась сдвинуться с места, чтоб не спугнуть видение.
— Голубка моя! — кинулся к ней князь, обнял, расцеловал, прошептал горячими губами: — Истосковался я по тебе, горлица моя ненаглядная.
Она, боясь поверить своему счастью, едва сдерживала готовые пролиться слезы. Знала, что поначалу князь, увидев блеснувшие в ее глазах слезинки, заботливо успокаивал, целовал влажные глаза, но теперь всякий раз, когда видел ее заплаканное лицо, начинал сердиться и, оставив ее в слезах, уходил в свои покои.
Подхватив невесомое тело, Михаил Ярославич закружился с ним по горнице, смеясь и целуя все еще испуганную Марию, а потом бережно опустил ее на ложе и сам повалился рядом. Кажется, только теперь она опомнилась, протянула к нему руки, осторожно дотронулась до щеки, нежно провела ладонью по мягкой бородке и как‑то робко улыбнулась. Князь весело засмеялся, прижал ее к себе и снова начал целовать, ткнулся носом в шею, обжег поцелуем порозовевшую щеку и, добравшись наконец до алых губ, жадно впился в них. Как давно он не был с ней так нежен, не ласкал так истово, не сжимал в объятьях так, словно боялся лишиться ее, не шептал, что любит.
Уже звезды серебряной крупой обсыпали черное небо, а князь в радостном возбуждении все шептал ей горячие слова, не зная устали, наслаждался ее послушным телом. Когда он, откинувшись на измятые подушки, погрузился в сон, Мария, осторожно сняв его тяжелую руку со своего бедра, стараясь не разбудить князя, встала с ложа, подняла с пола измятую рубаху и, надев ее, на цыпочках подошла к образам. Зажав левой рукой разорванный ворот рубахи, она, поправив лампадку, опустилась на колени и, безмолвно шевеля опухшими губами, стала молиться, то и дело вытирая выступавшие слезы.
Утром Михаил Ярославич проснулся от пристального взгляда, обращенного на него.
— Что так смотришь на меня, лада моя? — спросил он мягко и снова притянул Марию к себе, поцеловал темные, горящие каким‑то внутренним огнем глаза. — Почему личико твое милое нынче так бледно? Уж не захворала ли ты, горлинка?
Он снова протянул к ней руки, хотел обнять, но она отстранилась и очень тихо сказала:
— Я, сокол мой ясный, не хворая, — замолчав на мгновение, словно решая, надо ли открывать князю свою тайну, и вдохнув поглубже как перед погружением в воду, отважилась: — Тяжелая я, Миша. Ребеночка твоего ношу под сердцем.
— Что ж молчала до сей поры? — едва ли не вскрикнул князь и, прижав ее к себе, снова стал целовать.
— Да погоди, погоди, Миша, — пыталась отстраниться Мария.
Однако он не выпускал ее из своих объятий, и она, сдавшись, откинулась на подушку, нежно обхватила его руками, ощущая под ладонями крепкое сильное тело, игриво уворачивалась от щекочущей шею бороды, тихо смеялась, теребя тонкими пальцами светлые пряди, обрамляющие молодое лицо.
— Что ж молчала? — спросил он через некоторое время. — Такую‑то радость от меня утаила!
— Не таила я, Миша, ничего, — сразу посерьезнев, ответила она, — кому ж я об этом сказать‑то могла, ежели ты к моей горнице дорогу стал забывать?
— Винюсь, ладушка моя ненаглядная, прости меня, непутевого, — усмехнувшись, сказал на это князь и нежно погладил Марию по голове, — дел у меня нынче прибавилось. Знаешь ведь, что лишь намедни в Москву воротился и уж снова город покидать пришлось.
— Что Москву надолго оставлял, мне это ведомо. Но о том моя душа болит, что меня забывать стал. Одна вечерами у окошка сижу, одна ночки коротаю.
— Не хотел я тебя прогневить! Веришь ли? — стал шутливо оправдываться князь. — За важными разговорами допоздна сидим, вот и не хотел тебя беспокоить, сон твой тревожить.
— Ране не боялся посередь ночи разбудить, а тут на тебе — поберег! — упрямо надула Мария губы.
— Ну, ну, совсем осерчала. Угомонись, голуба моя! Тут я! С тобою рядом! Скажи‑ка лучше, кого мне ждать? Сына, богатыря али дочку, всю в тебя — красавицу?
— Кто ж тебе такое загодя скажет, — ответила Мария, смягчившись. — Ты ж наверняка сынка хочешь? Разве ж я не права?
Михаил, смущенно улыбнувшись, кивнул, снова собрался поцеловать ее, но она решительно отстранилась.
— А думал ли ты, что с дитем станется, когда он на свет появится? Кем ему быть? Вот то‑то и оно! — Еще ночью она решила, что все скажет князю, обо всем спросит, и теперь говорила твердо, не спуская с него пристального взгляда, будто хотела понять, будет ли он с ней правдив, не станет ли лукавить. — Моя судьба меня нынче меньше всего заботит. Я твоей любовью живу и одному твоему ласковому слову радуюсь. — Ее возлюбленный хотел что‑то сказать, но она прикрыла ему рот ладонью: — То, что я с тобой, Миша, в грехе живу — это моя печаль, а вот как же быть с дитем во блуде прижитом? Он ведь ни в чем не повинен, а уж с его первого дня грех на нем будет!
— Знаю, к чему клонишь, — спокойно произнес князь, поднимаясь с ложа, — догадываюсь. Ведь и мое сердце не камень. Только говорил уж, что не могу я тебя под венец вести, пока с одним делом не разделался. Оковами тяжелыми оно на мне. Вот как только все уладится, и обвенчаемся.
— Но теперь же мне не одной горе мыкать! — воскликнула она, и в ее дрожащем от волнения голосе явственно слышался упрек.
— Если б сразу ты сказала обо всем, так я успел бы к нынешнему дню все обдумать, потому не серчай! И о нашем с тобой ребенке не беспокойся. Все с ним ладно будет. Как‑никак княжеского рода, а потому и дорога его не в посад лежит, а в княжеские палаты.
— Твоими бы устами да мед–пиво пить, — проговорила она сквозь слезы.
— Все уладится, Марьюшка, будешь ты у меня, красавица, великой княгиней, в городе стольном жить–поживать, — приговаривал князь, гладя ее по растрепанным темным волосам.
— Что ж, слова твои как елей. Из посада — да в княгини! — проговорила Мария, надув губы, но неожиданно до нее дошел смысл сказанного, и она уставилась на князя, пытаясь понять, не шутит ли он. — Это как же? Из посада — да сразу в великие? Кто ж меня туда пустит? Да и ты — князь удельный. А во Владимире дядя твой сидит!
— Не хотел я тебе о своих задумках до поры до времени говорить, но с кем же мне еще поделиться, как не с родным человеком? Ты ж ребенка моего под сердцем носишь. Потому доверяю я тебе, — сказал князь, внимательно глядя на Марию.
Присев на край ложа, он положил ей руку на плечо и вкратце поведал и о том, что подозревает Святослава в причастности к смерти отца, и о том, что хочет отомстить ему за это и самому занять великокняжеский стол. Ни жива ни мертва внимала она его словам, вздыхала по–бабьи, участливо иногда качала головой, порой удивленно вскидывала брови, а когда он завершил свой рассказ, смотрела на него со страхом, не будучи в состоянии произнести хоть слово.
— Теперь ты о делах моих осведомлена. Все тебе поведал. Надеюсь, что будешь мне в моем трудном деле опорой, а не ковами. Знай: все делаю я не ради корысти, а лишь затем, чтоб зло искоренить. А как сяду во Владимире, и о нашем с тобой счастье да о будущности дитяти нашего позабочусь.
— Ой, Миша, чтой‑то боязно мне за тебя! А ну как стрый супротив выступит? У него сил‑то поболе! Что ж тогда? — Она закрыла лицо руками, а потом, скрестив их на груди, сказала твердо: — Ты не печалься, Миша! Я обузой тебе не стану. Лишь об одном прошу: береги себя. Ведь кроме тебя, сокол ты мой ясный, меня… нас, — поправилась она, провела ладонью по животу, который совсем не выдавал ее положения, и продолжила решительно: — Ведь кроме тебя, Миша, нас защитить нынче некому.
Михаил утвердительно кивнул.
На самом деле он и раньше не мог понять, как ему следует поступить с Марией, а теперь и вовсе ломал голову, что делать. Ослепленный первым сильным и искренним чувством, он совсем не думал о последствиях своего опрометчивого поступка, лишь через некоторое время, поймав укоризненные взгляды воеводы, решил, что пускай все остается так, как есть.
Не без наущения Макара, считавшего, что московская зазноба «не по роду» требует к себе от князя слишком много внимания, Егор Тимофеевич будто невзначай пару раз напоминал Михаилу Ярославичу Mономаховы «Поучения», говорил, что, мол, в пьянстве и блуде погибают душа и тело и что даже женам — воевода особенно выделял это слово — не должно давать над собою власти. Видя, что князь не воспринимает его намеки, он как‑то сказал ему напрямую, что, мол, Мария вправду девка ладная да видная, но мало ли таких еще встретится, не всех же под венец вести. И сам Михаил Ярославич, когда немного поостыл любовный жар, охвативший его, стал понимать, что как ни хороша его зазноба, а в жены тем не менее следует брать дочку какого‑нибудь князька, пусть даже и захудалого: все‑таки поддержка будет, да и приданое не помешает. А если не торопиться с выбором, можно приглядеть невесту из хорошего рода, чтоб ему ровня была.