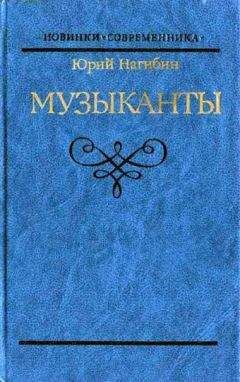Валентин Азерников - Долгорукова
Парады, смотры и разводы заменяли вполне поле брани.
Тем паче брани в более позднем смысле этого слова вполне доставало. Особенно сочно бранились все Павловичи: Константин, Михаил и сам Николай. Впрочем, и Николаевичи, и Александровичи старались от них не отставать. Так что звёзды, кресты и медали все они носили заслуженно. В этом, разумеется, смысле.
Заговорщики-народовольцы, одержимые навязчивой идеей, всё это, конечно, знали. И всё изобретали какой-нибудь хитроумный способ покушения на Александра. Уж никто из них не помнил, кому первому пришла в голову идея заложить бомбу под Каменным мостом, перекинутым через Екатерининский канал при пересечении с Гороховой. Это был обычный путь императора в Михайловский манеж.
Ухватились. Ежели мост взлетит на воздух, то вместе с ним и император. Стали думать, где поместить заряд — под мостом или в воде. Под мостом могут обнаружить. Стало быть, в воде.
Кибальчич, главный авторитет по взрывному делу и вообще светлая голова, утверждал, что затея эта вполне осуществима. Единственная загвоздка — как надёжно укрепить заряд. Нужен был опыт, нужна была скрытность. Опыта подводных взрывов ни у кого не было, даже у головастого и изобретательного Кибальчича. Пришлось, увы, эту идею оставить.
Головы беспрестанно работали. Головы были светлые, но затуманенные злобностью и навязчивой идеей. Взорвать, взорвать, взорвать! Убить, убить, убить! Как всякое покушение, все эти замысли обычно рождались у трёх-четырёх отчаянных и сохранялись в величайшей тайне.
О сохранении тайн более всех остальных заботился Михайлов. Его бдительность и предусмотрительность приводили всех в восхищение, хотя кое-кто и ворчал, считая все эти предосторожности чрезмерными и даже смешными.
Вот, например, горшки с цветами на окнах. У них должен быть свой язык, своя чёткая система сигналов. Скажем, горшок, придвинутый в левый угол подоконника, означал, что надо опасаться дворника. А правый — поглядеть по сторонам улицы либо переулка, нет ли «хвоста». Отсутствие горшка означало опасность — заходить не следует, а с независимым видом проследовать мимо.
С превеликою предосторожностью следовало идти на явочную квартиру. Торопливость в этих случаях была неуместна. Надлежало убедиться, нет ли слежки. С этой целью надо было, фланируя, глазеть на каждую витрину, ненароком оглядываясь. Все проходные дворы должны быть известны как свои пять пальцев. И не только в ближних улицах и переулках, но и в дальних.
Словом, Александр Дмитриевич возвёл конспирацию в целую науку. И эта система служила верно до той поры, пока кто-то по неосмотрительности либо по небрежности её не нарушал и становился жертвой собственной легкомысленности.
Очень многих Михайлов уберёг от провала. Но в конце концов сам сорвался. И пал жертвой собственной небрежности. Сам бы он, случись это с кем-нибудь другим, заклеймил нарушителя в самых суровых выражениях.
Фотографическое заведение Александровского было известно всему Петербургу. Оно располагалось на Невском проспекте, отличалось добротностью в исполнении заказов, а потому там почти всегда было многолюдно. И многолюдство это до поры до времени не вызывало пристального внимания полицейских агентов. Правда, полиция сама пользовалась услугами этого заведения, когда надлежало запечатлеть преступников, особенно политических.
Михайлову было это известно. И он решил получить отпечатки с негативов, на которых были сняты схваченные товарищи. Попросил сходить за ними знакомца, который был вне подозрений. Но тот отказался. Тогда раздосадованный отказом, он отправился сам.
О, великий конспиратор соразмерял каждый свой шаг. Главное, не торопиться и не суетиться. Он задержался у кондитерской Дюфура с её промытой витриной. В ней, как в зеркале, отражалась улица со сновавшими взад и вперёд экипажами. Тут были роскошные кареты четверней, и скромные шарабаны в одну лошадь, и пароконные повозки, и могучие битюги, легко тянувшие большую телегу, доверху нагруженную кладью, и извозчичьи пролётки. Он делал вид, будто внимательно изучает содержимое витрин, а на самом деле изучал прохожих, отражавшихся в ней. Бритый в котелке, дымчатых очках, в развалку шествовавший по тротуару, приковал его внимание. Фланёр? Шпик?
Михайлов завернул в кондитерскую, спросил чашку шоколаду и устроился у окна. Вот бритый медленно прошествовал мимо, на минуту задержался у витрины, взгляд его скользнул мимо, и он лениво прошёл.
Михайлов помедлил и, торопливо расплатившись, вышел на улицу. Бритый исчез. Ложная тревога, можно продолжить путь. Помахивая тросточкой, он неторопливо зашагал дальше, поминутно останавливаясь у каждой витрины, благо витрин-то было много, и как бы любуясь собственным отражением: ни дать ни взять невский петиметр. Но борода, борода! Петиметры были бриты, но при усиках, он про это запамятовал. Однако бывают же исключения. Одно такое было ему известно. Впрочем, бороду следует до времени сберечь. Вот когда придётся переменять облик, тогда ею должно пожертвовать...
Вот наконец и фотографическое заведение. Он помедлил у входа, как бы поджидая кого-то, потом, оглядевшись, поднялся по ступеням. На ходу он обдумывал, как спросить карточки арестованных товарищей. Вот ведь закавыка — ничего сколько-нибудь обоснованного и убедительного не приходило ему в голову.
«Им тут наверняка известно, что это изображения государственных преступников, — размышлял он. — Стало быть, тот, кто ими интересуется, тоже государственный преступник либо их сообщник. Эх, надо было послать девицу, — спохватился он. — Девице можно истребовать карточку молодого мужчины: суженый, братец, знакомый...» Но уж отступать было поздно: к нему шёл служащий.
— Мне бы хотелось получить отпечатки... — И он назвал три фамилии.
— Господин из полиции? — и не дожидаясь ответа, проследовал в служебное отдаление. Его коллега, слышавший просьбу, выразительно провёл ребром ладони по шее.
«О, чёрт, надо смываться», — мелькнуло в голове у Михайлова, и он скатился по лестнице к выходу и, перебежав на другую сторону улицы, затерялся в проходном дворе.
«Глупо, глупо! — думал он, торопясь на явку. — Но как же быть, как добыть фотографии? А может, мне только показалось? Я слишком чувствителен: пуганая ворона куста боится. Помедлю дня два, оденусь по-другому... Бог не выдаст — свинья полицейская не съест».
Что уж такое с ним случилось, какая вожжа под хвост попала — понесло. Была забвенна осторожность, столь свойственная ему, — не иначе, как сознание обволокло туманом. Отправился через два дня как ни в чём не бывало.
Тот же служащий встретил его у входа. И, как показалось Михайлову, обрадовался ему.
— Помедлите минутку, милостивый государь, я вас запомнил. Запомнил и вашу просьбу. Сей момент вынесу просимые карточки.
«Запомнил... Вот это лишнее», — думал Михайлов, топчась в приёмной.
— Вот, пожалуйте, господин хороший. С вас синенькая — тут комплекты из трёх фотографий каждой персоны, — и он, получив пятирублёвку, протянул Михайлову конверт. — Позвольте проводить вас, сударь, прошу вас обращаться впредь только в наше заведение, — узкие глазки его источали удовольствие. А его коллега, сделавший давеча предостерегающий жест, глядел угрюмо и, как показалось Михайлову, с укоризною.
«Кажется пронесло», — подумал он, спускаясь вниз. Но тут сверху его окликнули:
— Погодите, сударь, к вам есть нужда!
Он оглянулся: сверху торопливо, перешагивая через две ступеньки, спускались два субъекта почти одинакового вида.
Михайлов всею кожей ощутил опасность и стремглав кинулся вниз. Но у выхода его дожидались четверо. Эти были ловки: мгновенно скрутили ему руки и потащили за собой, злорадно приговаривая: «Попался, субчик!»
— Он, кажется, протестует, — заметил один из них. Михайлов и в самом деле, опомнившись, запротестовал:
— Вы не смеете так обращаться со мною. Я буду жаловаться господину оберполицмейстеру. Я не тот, за кого вы меня принимаете.
— Тот-тот! Ежели был бы не тот, не бежал бы, — резонно объявил агент.
— Я от неожиданности... Я испугался...
— А зачем карточки политических занадобились? — ехидно вопросил другой.
— Для коллекции. Собираю изображения государственных преступников.
— Вот и мы тебя для коллекции сведём куда надо. И с тебя портрет снимут.
Ему было стыдно и горько. Так глупо попасться! Ведь запретили же ему лезть на рожон, да он и сам себе запретил и другим заказал... Нашло, накатило. Дурость накатила! Боже мой, и не вывернуться. Их слишком много, дюжих молодцов...
Засадили в кутузку. Притом не в общую камеру, как обычно водилось в доме предварительного заключения, а в отдельную. Целую неделю выдерживали его: ни на допросы не водили, ни к нему не заявлялись. Было время для осмысления своего положения. Михайлов понял: о нём сведаны. Но решил запираться до последнего, прекрасно зная, что прямых улик против него у властей нет. Впрочем, и надежды на освобождение тоже нет.