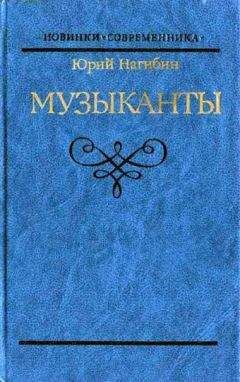Валентин Азерников - Долгорукова
Александр был тронут. Среди злобных, а порой и угрожающих откликов большинства дворянства, среди явного неодобрения многих приближённых, эти четыре строчки прозвучали музыкою.
Надежда стала питать поэта с новым царствованием. Именно тогда он вопрошал:
Над этой тёмною толпой
Не пробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..[31]
«Что ж, его надежда сбылась», — думал Александр. Сбылись и его пророчества: в России поэт был всегда пророком. Его вещие зеницы отверзлись для острого взгляда в бытие, в его прошлое, настоящее и будущее. Он прозревал, порою дерзновенно:
Не Богу ты служил и нс России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, все призраки пустые.
«Ты был не царь, а лицедей», — писал Тютчев о покойном Николае. Это поэтическое клеймо было несмываемо во времени и временем, и сын Александр хотел было обидеться, но по здравому размышлению раздумал. Он всё-таки прав, и как тяжко разгребать после отца все эти человеческие и хозяйственные завалы. «Фёдору Ивановичу следовало отдать справедливость, — не однажды размышлял он, — поэт словно бы поднялся в поднебесье и оттуда воззрел на Россию и её положение».
Александр стал прислушиваться к голосам двух своих современников — товарища детских игр Алексея Константиновича Толстого и обладателя вещей души Фёдора Ивановича Тютчева. Последний, увы, не мог отказаться от службы, и государь пожаловал ему должность необременительную, но с достаточным жалованием, могущим в какой-то мере поправить его пошатнувшиеся материальные дела — председателя Комитета иностранной цензуры. Правда, спустя некоторое время, преимущественно по наущению супруги Марии Александровны, бывшей тогда в силе и славе, Александр вынужден был выговаривать ему за связь с молоденькой Еленой Денисьевой[32] — это при второй-то супруге, баронессе Орнестине Фёдоровне, при множестве детей от всех браков и даже— даже! — от незаконной связи. В душе Александр вовсе не находил в этой связи ничего предосудительного: подумаешь, Тютчев старше своей пассии всего на двадцать четыре года. Правда, тогда у него не было Кати, Катеньки. Годы совпали: Тютчеву было сорок семь, когда он стал жить с Денисьевой, и Александру тоже сорок семь, когда он пленился Катей: седина в бороду — бес в ребро. Но женщины, женщины требовали осуждения! И Александр очень неохотно выговорил поэту:
— Фёдор Иванович, ты слишком увлёкся, не следовало, чтобы о твоей связи знал не только весь двор, но и весь свет.
Впрочем, Фёдор Иванович был совестлив и зла не таил. Тем более что императрица Мария Александровна приблизила к себе его дочь от первого брака Анну и сделала её фрейлиной, доверив впоследствии воспитание великой княжны, тоже Марии Александровны. Опыт у Анны — имея в виду придворный — был основательный к тому времени: она служила императрице Марии Фёдоровне, супруге Николая.
Поэт добру и злу внимал равнодушно. И поминал добро стихом:
Но есть ещё один приют державный,
Для правды есть один святой алтарь:
В твоей душе он, царь наш православный,
Наш благодушный, честный русский царь!
Он почитал Александра благодушным и честным. Это было очень близко к истине. И тотчас откликался на злоумышления:
Так! Он спасён! Иначе быть не может!
И чувство радости по Руси разлилось...
Но посреди молитв, средь благодарных слёз,
Мысль неотступная невольно сердце гложет:
Всё этим выстрелом, всё в нас оскорблено,
И оскорблению как будто нет исхода:
Легло, увы, позорное пятно
На всю историю российского народа!
Александр находил утешение в стихах поэта. То был глас избранника Божия. И он пребудет во временах «доколе жив будет хоть один пиит» — пушкинские строки читал ему Василий Андреевич Жуковский, к коему Александр до последнего вздоха сохранил благодарную память.
«Что ж, — размышлял Александр, — во всём надобно искать утешения и оправдания. Даже в изменах собственной супруге. Любовь неуправляема. Её не втиснешь ни в какие рамки. Это стихия. Она поднимает и несёт человека подобно океанской волне или грозной буре. Но не в мрачную пучину, а в лазурные небеса. Можно ли осуждать Тютчева? Можно ли осуждать меня? Любовь — последнее моё прибежище. В этой жизни последняя радость».
Тютчев лучше других — тоньше и глубже — чувствовал это:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней[33]!
«Этот свет сияет нынче мне, — думал Александр, — И я бессилен погасить его».
Глава пятнадцатая
В РАСКИНУТЫЕ СЕТИ
Что в государе постоянное, а что мимоходное,
что природное и что напускное или искусственное,
что преобладает и как преобладает... по силе
привычки или по господству какой-либо общей
мысли, общей цели или общего опасения?
Когда в нём проявляется тёплое и, по-видимому,
искреннее чувство, нельзя ему не поддаться.
Когда видишь, как упорно иногда безмолвствует
это чувство, нельзя не ощутить словно обдания холодом...
Валуев — из ДневникаЕсть такой потаённый зверёк — крот. В тишине и темноте прокапывает он под землёй свои ходы. Где зальце устроит для веселия и припасов, где запасной выход либо боковую галерею. Казалось бы, не видно его и не слышно. Ан нет: иной раз выдаёт он себя кучками земли, которую хочешь не хочешь, а приходится выгребать на поверхность...
Так и заговорщики. Как ни таятся, а время от времени ненароком обнаружат себя. Большей частью по неосторожности — по следу, оставленному слишком явно, иной раз по случайности, которую никак нельзя было предусмотреть. Наконец, по искусности сыщиков, что тоже приходится принимать в расчёт.
Тайное рано или поздно становится явным. И это неоспоримо.
Александр Дмитриевич Михайлов, слывший среди своих единомышленников гением конспирации, без устали твердил это.
— Главное для нас, чтобы тайное стало явным с нашей же руки, — учил он, когда Перовская и Ширяев вместе с остальными рыли галерею под железнодорожное полотно. — Крот, он слеп, не видит, куда выкидывает землю. А мы-то с вами не слепы, не должны оставлять следов на поверхности.
Не оставили — всё было шито-крыто. И квартальный, наведывавшийся к гостеприимной хозяйке, и пристав, свершавший обход домовладений не только порядка ради, а и в надежде — да что в надежде — в уверенности! — что перепадёт на лапу, ничего не разнюхали.
Целились-целились, да промахнулись! Огромный труд и большие денежки пошли, как с горечью, грубовато выразился Степан Ширяев, коту под хвост.
Следили за выездами императора с великим тщанием: каким путём ездит он на прогулки и на своё излюбленное зрелище — развод, в Михайловский манеж.
Царская это утеха — развод. Пешие и конные караулы, назначенные в дежурство, чеканя шаг, равняя конный строй, проходят перед командующим и придирчивыми очами его величества и великих князей.
— Третья рота Семёновского полка — смирно! Назначением в Зимний его величества государя императора дворец. Разводящий — штабс-капитан Ермолаев, помощники... Шагом марш!
— Лейб-гвардии Гусарский, их высочеств полк, второй эскадрон... Назначается в объезды по Дворцовой набережной. Разводящий — штаб-ротмистр Елисеев...
И всё в таком роде. Картинка! Пахнет солдатским потом и конским навозом, воробьи бесстрашно снуют под копытами коней, их немолчное чириканье раздаётся под сводами. Лица каменные, строгость необыкновенная — сам государь зырит. Веселья — ни-ни!
Каждый звук гулок, перекатывается из конца в конец манежа. Это усиливает эффект, команды зычные, всё отдаёт парадностью. А любовь к парадам у Александра и его сыновей в крови. Николай Павлович жить не мог без парадов и смотров. Он чувствовал в себе военную жилку, главное, что ли, призвание. Хотя про него можно было сказать словами поэта:
В каком полку он некогда служил,
В каких боях отличен был как воин,
За что свой крест мальтийский получил
И где своих медалей удостоен —
Неведомо...
Неведомо, неведомо, неведомо. Чудес воинской доблести никто из царствующей фамилии не проявил, на поле брани вёл себя — ежели вёл — весьма сдержанно. То ли дело Пётр Алексеевич, который Великий. Этот бывал впереди своих полков и, случалось, лез прямиком в пекло.