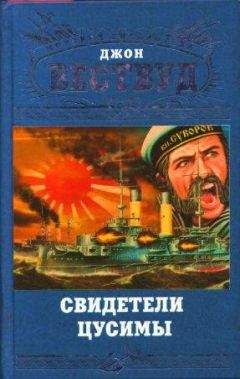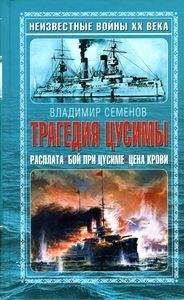Леонид Гиршович - Обмененные головы
Свет погас, под козырьками пюпитров засветились лампочки. Я не мог отвести глаз от оркестра, куда, слева от лысины Шора, себя мысленно с трепетом помещал. Между музыкантами быстро боком прошел Лебкюхле, только тут я его идентифицировал. Юнкерский кивок залу – в следующую секунду раздается первый аккорд, словно музыка сама собой зазвучала от одного его появления – а не по его знаку; не знаю, какому дирижеру впервые честолюбие подсказало этот трюк.
Я слушал, я смотрел. Декаданс иронизировал по поводу декаданса, неспособный более себя воспринимать всерьез, но и неспособный от самого себя оторваться. Несколько раз меня начинало клонить в сон, что после такого дня неудивительно. Есть в этом что-то: видеть мнимые сновидения сквозь самую натуральную дремоту. Пересказываю сюжет «Обмененных голов» Готлиба Кунце – мы с ним чуть-чуть тезки, – который (сюжет) отчасти, возможно, мне даже и приснился.
То, что сегодня мы бы назвали сверхзасекреченной диверсионной школой, – некая тайная иудейская не то секта, не то орден, где прекрасные еврейки обучаются искусству отсекать головы у обольщенных ими врагов. Случается, однако, и им влюбляться в свои жертвы, как это произошло с Юдифью и Саломеей. Как безумные, бродят они, прижимая к себе огромные головы Олоферна и Иоханана, – и целуют их, и ласкают, и обращают к ним сладострастные речи. Юдифь, старшая, вспоминает, что слышала про такое зелье, которое приживляет голову к телу. Секретом его якобы владела великая Далила, непревзойденная в своих чарах, – та, что, воспылав страстью к Самсону, отрезала этому герою вместо головы пук волос, не подозревая, что в них-то и сокрыта его пленительная сила. Юдифь и Саломея решают вызвать тень древней Далилы. Но их наставница Эсфирь со своим дядей Мордехаем подслушивают их разговор – и в смятении: ведь Эсфирь тоже не расстается с головой Артаксеркса, а дядя ее Мордехай – с головой Гамана (в опере Артаксеркс зовется своим древнееврейским именем Ахашверош – что значит «чувство и разум»). Между Эсфирью и Мордехаем с одной стороны и Юдифью и Саломеей с другой завязывается ссора, Эсфирь и Мордехай обнажают мечи, Юдифь и Саломея следуют их примеру, но перевес явно не на их стороне, и они спасаются бегством. Впопыхах они уносят не те головы: Мордехай и Эсфирь, к своему ужасу, обнаруживают, что остались с головами Олоферна и Иоханана. Между тем в своей пещере Эндорская волшебница вызывает тень Далилы. Далила открывает Юдифи и Саломее тайну чудодейственного зелья, которое воскресит к жизни Олоферна и Иоханана. Эндорская волшебница помогает им в приготовлении этого зелья. Глубокой ночью Юдифь и Саломея спускаются в ров, полный обезглавленных тел, и среди них отыскивают тела своих возлюбленных по им одним ведомым приметам: Юдифь искала глубокий шрам от сабельного удара, Саломея – след от укуса дикой козули. Ожившие гибриды, едва только головы прирастают к их туловищам, начинают безумствовать. Звучит дуэт, в котором скрещиваются музыкальные характеристики Артаксеркса – Иоханана и Гамана – Олоферна. Случилось непоправимое. Понимая это, Юдифь и Саломея в отчаянии протягивают им свои мечи: «Скорей обезглавьте нас!» Что те и делают с явным удовольствием. Подоспевшие Эсфирь и Мордехай со стражей видят Артаксеркса в шкурах Иоханана, а Гамана в доспехах могучего Олоферна – с головами Юдифи и Саломеи. Побросав их, гибриды разбегаются с хохотом людей, побывавших уже в аду. Эсфирь и Мордехай берут головы Юдифи и Саломеи и соединяют их щека к щеке с принесенными ими головами Олоферна и Иоханана. Занавес.
Вот такой, достойный пера Хармса или Ионеско, сюжет был положен на «музыку непреходящих восторгов», у истоков которой стоял сам Рихард Вагнер; которая начиная с тридцатых годов в виде музыки к фильмам продолжала пользоваться спросом еще четверть века, но уже за океаном. В опере Кунце этот, пардон, звучащий оргазм достигал предельной остроты – благодаря котурнам самонасмешки, оставив позади и Рихарда Штрауса, и Корнгольда, и фон Цемлинского. Прием, возможно, не самый честный, но, как гласит пословица, победителей не судят. Томас Манн, весь вышедший из вагнеровского «тристанова аккорда» [48] , даже пишет под впечатлением «Обмененных голов» Кунце одноименную повесть, перенеся лишь действие ее в края еще более экзотические: в Индию, на берега священного Ганга.
Сейчас я постараюсь описать свое врастание в Циггорн с неменьшей лаконичностью, чем пересказал оперное либретто. Самым трудным было без какого-либо опыта оркестровой игры (студенческий оркестр не берется в расчет) сесть за первый пульт. Я дебютировал – думаю, что к счастью – в симфоническом концерте – том самом, афиша которого еще навела меня на след циггорнского оперного театра. У помощника концертмейстера в 4-й Малера есть маленькое соло. Я его недурно сыграл и удостоился «непротокольного» рукопожатия Лебкюхле. То есть сразу себя хорошо зарекомендовал, что в Германии важно: немцы – рабы первого впечатления как мало кто. Шор, которого я побаивался, вот кто показал себя с самой лучшей стороны: на репетиции, случись мне ошибиться, он весело подмигивал или отпускал шуточку, всегда готов был помочь. Самому ему в этой симфонии пришлось поработать не только смычком и пальцами, но и колком – по желанию Лебкюхле, настаивавшего на том, чтобы первый скрипач не менял инструмент по ходу игры, а именно «перестраивал» его, как указано Малером в нотах. («Поверьте, Малер свое дело знал хорошо» [49] .) Лебкюхле был из тех дирижеров, что профессионально самоутверждаются, дирижируя Малера, – которого в оркестре, я заметил, большинство искренне не любило, видело в нем баловня послевоенной моды . Один музыкант как-то обосновал мне это в кантине за кружкой пива – да так, что я даже вспомнил об Эсе без раздражения. Но он не был немец (немец бы не осмелился), он был венгр, хотя и вырос в немецком приюте, куда угодил после «пятьдесят шестого года».
От Корнгольда я был свободен и не полюбопытствовал вовсе взглянуть на альтистку Ингеборг Ретцель. «Счастливое плавание» Мендельсона в соответствии с авторским обещанием протекало без каких-либо подводных рифов, а «Морская тишь» была такой, что я даже отважился во время концерта скосить глаза на коленки сидевших в первом ряду.
Это была моя вторая проблема – и она мучительно долго не разрешалась. Сложность заключалась не в моем немецком, улучшавшемся день ото дня; скрипичный футляр, наличие фрака в гардеробе, возможность помахать приглашенной тобою в театр особе смычком из оркестровой ямы, не говоря уж о численном превосходстве слабого пола над сильным, что здесь, как исключение из общего стратегического правила, отнюдь не залог победы, – все это с лихвой искупало то обстоятельство, что я, так сказать, состоял в «иностранном легионе». Беда была во мне самом. Я… не умел этого делать ни с кем, кроме Ирины, – до нашего знакомства мы оба были девственны. Да Боже мой, чего ради я об этом распространяюсь… Никого не было, и точка. Пока со мною как-то за первым пультом не оказалась Мидори – самурайская дочь. Мы играли оперетку «Нищий студент» – как здесь ее называют, «Polnische “Götterdämmerung”» [50] . В опереттах я всегда бывал первой скрипкой. Шор ими брезговал – если только не возвращал мне долги: он мог куда-нибудь укатить на две недели, и тогда я работал каждый день, и за себя, и за него, ну а потом, естественно, мы менялись ролями. В опереттах подручным у меня сидел кто-нибудь из tutti [51] , они там между собой тоже менялись как хотели. В немецких оперных театрах никто не перерабатывает, а главное, нет жесткого графика, почти всегда можешь вне очереди освободиться, даже в последнюю минуту – обменявшись с кем-то. Это объяснялось частыми и внезапными предложениями играть на заменах в других оперных театрах. Уже через несколько месяцев меня стали приглашать и в Рунсдорф, и в Либенау, и в Кессель, и даже на бывшее Северо-Западное радио. В России этот род деятельности назывался «халтура», от греческого «халкос» [52] – медная монета; а в Германии более прозаическим словом «мугге» – сокращенно от Musikalisches Gelegenheitsgeschäft [53] . Приработок некоторых «муггемейстеров», как сами они себя с гордостью называли, нередко превышал основной их заработок. Я неустанно совершенствовал свои познания в географии Циггорнского княжества и сопредельных с ним владений других августейших особ: королей, герцогов, курфюрстов, князей – открывая все новые золотые жилы. Ротмунд (на перроне транспарант: «Добро пожаловать в Ротмунд – на родину поггенполя!» [54] ), Липперт-Вейлерсгейм, Эйзенштейн, Оллендорф [55] … Театры, театры, театры – триста марок за вечер, триста марок за вечер, триста марок за вечер. Сколько в Германии этих крошечных оперных театриков, где каждый второй музыкант почему-то считал своим долгом продекламировать мне на память – с чешским, венгерским, еще каким-то акцентом – стихотворение Пушкина, заученное когда-то в школе. Ностальгическая Центральная Европа… Когда-нибудь она еще себя покажет. Чем провинциальней театрик, тем забавней было в нем играть. Оркестры звучали как в немом кино, на сцене происходили невероятные вещи – не говоря уж о накладках, когда во «Фрейшюце» [56] , скажем, Каспар, ведя счет отлитым пулям, выкрикивает: «Пять!» – а эхо в ответ: «Четыре!» Совершенная прелесть – тамошние мизансцены. Хористы создают «характеры»: эти двое поглощены увлекательной беседой, та лорнирует присутствующих с видом светской львицы, вдруг все общество скандализировано мнимой изменой главной героини – понаблюдайте при этом за каждым. Это не просто смешно, это непроизвольная самосатира: перед тобой тот же самый набор масок, предписываемых условностями человеческого общения – лишь слегка утрированных, – которыми эти люди пользуются и в повседневности.