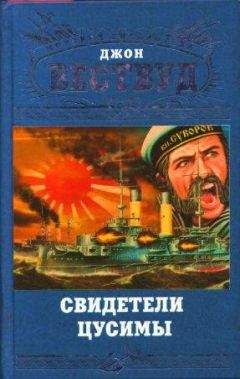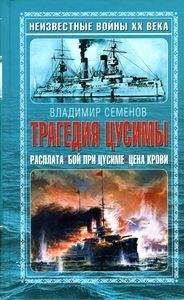Леонид Гиршович - Обмененные головы
Другим моим занятием в паузах было разбирать сделанные в нотах пометки, надписи, рисунки. Излюбленное развлечение оперных музыкантов – опасаюсь, что во всем мире приписать в каком-нибудь слове одну букву, зачеркнуть другую, и вот уже «Лоэнгрин» превращается в «Кило селедок», «Выход княгини» – в «Выход коровы» [57] (Kuhfürstin – с уточнением, что имеется в виду не кто иная, как фрау Мартин, допустим), «Отелло» – в «Брутелло», а то и в «Отель», и так до бесконечности. Попадаются «юмористические» картинки: пожарный из брандспойта тушит Жар-птицу. Есть в оркестрах свои хронисты, которые бодрым голосом радиосводки вещают, что сегодня, 27.9.41, наши войска вступили в город Харьков. У меня в горле что-то булькнуло – а я-то думал, что уже сделался деревянный. Как истинный антикварий, я прочитывал столбцы автографов своих предшественников на всех нотных обложках: имя – дата, имя – дата, и так примерно с конца прошлого века. Как на братской могиле. В пятидесятых – шестидесятых годах к автографу – по крайней мере, в нашем театре – присовокупляли титул: лорд, маркиз или еще кто-нибудь. «Маркиз Шульц». А раз в Ротмунде в нотах мне даже встретился однофамилец, тоже J.Gottlieb (13.V.43, «Волшебная флейта», уже все горело небось вокруг), к своей фамилии пририсовавший скрипичный ключ – пузатый, с личиком, ручками, как бы играющий на скрипке. Чего только не увидишь в оркестровых нотах. Вот одно «остренькое» переживание: рядышком на странице, только разными почерками, красуются две свежие новости: убит Ратенау [58] и убит Кеннеди. Я тоже несколько раз оставлял память о себе на нотах, по-русски.
...(…Тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки. [59] )
Какие еще бывают маленькие радости у обитателей оркестровых ям: ну, в «Хоре охотников», опять же во «Фрейшюце», вместе с охотниками гаркнуть всем оркестром «йо-хо!». Приветствовать дружным шарканьем подошв ту или иную реплику на сцене, вроде: «Уж поздно, я устал, пора домой» – почему-то всегда, не знаю почему, бурное веселье вызывала фраза из «Оберона»: «Мы спасены, но еще не в безопасности». В «Сказках Гофмана» вопрос «Что делаешь ты, шарлатан?» сопровождать укоризненным взглядом в направлении дирижерского пульта – если за ним не стоял сам Лебкюхле. В «Лоэнгрине», когда поется «Well, nun ist all’unser Glück dahin!» [60] , подобным взглядом удостоить соседку, к примеру японку. Японки-скрипачки – это особое понятие. Их в каждом оркестре до четырех-пяти, пока еще не старше тридцати лет, – хотя когда-нибудь неизбежно сморщатся и превратятся в японских старух. Сказали б красноносому камер-музикеру времен курфюрста Максимилиана, что на исходе следующего столетия на его месте будет сидеть японская старуха, я бы посмотрел, как поперхнулся он своим пивом. В сущности, это традиционные исполнительницы на сямисенах, принявших только в новейших условиях вид скрипок. Отсюда и все их психологические проблемы: с фанатическим упорством они решают квадратуру круга. У нас их было четыре: Мидори Ито, Ёшие Кимура, Кумико Сакаи и Маюми Сайто. Всегда настороже. Всегда одетые как если б были куклы, которые сами себя одевают. Всегда с дежурной улыбкой, переходящей в бессмысленный короткий смешок, – так же и по отношению друг к дружке. Кажется, необычайно амбициозные внутри их крошечного японского мирка, ибо вне его градации успехов и неудач невооруженным глазом видны не были. Я в принципе симпатизировал им – может быть, сочувствовал. Мы одинаково оказались вынесены на чужой берег, потерпев крушение в своих честолюбивых мечтах. Потом еще: мальчиком я видел один японский фильм, в котором никогда не забуду одной вещи – какой, не важно. И наконец – глупо, конечно, но перед моим мысленным взором возникают толпы литовско-польских евреев, осаждающих с чемоданами, с детьми японское консульство, и консул выписывает, и выписывает, и выписывает японские визы [61] , он выписывает их, уже сидя в вагоне, уже тронулся поезд…
У Мидори было прозвище Дореми, которым ее, впрочем, на моей памяти никто не называл, кроме Лебкюхле; на него иногда находило: изображать, что он – как все. Уже в рукопожатии моей случайной соседки по пульту был, как сказал бы Мопассан, «призыв» – или у меня последнее время мозги были набекрень, что тоже возможно. С другой стороны, я же привык здороваться со всеми по-немецки: исключительно за руку – и с мужчинами, и с женщинами, даже с детишками, которые все как один первыми тебе здесь тянут ладошку, так воспитаны. Но только с Мидори рукопожатие еще включало в себя прикосновение . Потом я нечаянно задел ее смычок своим – она дала сдачи. С началом очередной паузы (когда на сцене герцог Адам восклицал: «Еще Польска не сгинела, пока у нас есть такие женщины!») я уже намеренно погладил кончик ее смычка, в эту минуту он касался ее перламутрового ногтя, глядевшего из босоножки: был теплый день, май. Она ответила тем же. На это мой смычок вторгся к ней между тростью и волосом. Наши трости терлись друг о дружку. Она подняла глаза – японские красные кроличьи глаза – и усмехнулась своим коротким японским смешком: хм, хороший смычок… Дирижер показал, чтобы мы подготовились к мазурке.
После репетиции мы одновременно вышли из театра на улицу. Завязался русско-японский диалог по-немецки. Мы вместе пообедали в ресторане, а в пять спустились съесть пирожное в кондитерской возле ее дома. Скажу с откровенностью, которую только могу себе позволить: Мидори была прямой противоположностью Ирине – вы же понимаете, что я не мог их не сравнивать. С этой японской Дореми я не чувствовал, что мне оказывается любезность, – оказывал любезность я. Словно покупатель в дорогом западном гешефте, а не в московском или харьковском магазине, где предварительно еще отстаиваешь сорокаминутную очередь.
Однако, как говорится, инцидент последствий не имел и больше не повторялся. Вскоре из разговоров я узнал, что Мидори известна своей слабостью к лицам дирижерского, а также концертмейстерского сословия, на этой почве несколько лет назад у нее были даже неприятности с фрау Шор. И хотя со стороны фрау Готлиб неприятностей нам ждать не приходилось, для меня это было вполне достаточно, чтобы расхотеть встречаться с Мидори. По-моему, она не была ко мне в претензии, во всяком случае, мы вели себя оба так, будто максимум – это однажды видели вдвоем один и тот же сон, что невозможно ни проверить, ни доказать, а посему лучше предать забвению (правда, не думаю, чтобы она утруждала себя подобными рефлексиями). Зато я после этой истории словно освободился от заклятия, стали появляться женские имена, телефоны – то, что, подпадая под определение случайных связей, избавляет если не от одиночества, то хотя бы от кое-каких его последствий, в моем возрасте, я бы сказал, даже оскорбительных.
Вскоре после моего вселения в квартиру Эриха жена хаузмейстера – род техника-смотрителя – сосватала мне частного ученика, сына практиковавшего на нашей улице дантиста. Частные ученики обладают способностью размножаться не спариваясь. Через месяц их было пятеро, а еще через три моя школа прекратила набор. Их привозят цапленогие мамаши, обычно из Линденгартена или Цвейдорферхольца, где в домах повсюду букеты сухих цветов, а мебель признается только кожаная. Каждого третьего из них зовут Тобиасом. Я преподавал им рояль на чешском пианино с лопнувшей декой (как покойники питаются, так они и выглядят, говорилось в Одессе). Моя квалификация пианиста, приобретенная десятилетним посещением класса обязательного фортепиано, вполне соответствовала стоявшей передо мной задаче – поколение тобиасов отнюдь не готовило себя к музыкальной карьере, они собирались быть биологами (вариант: ветеринарами). В одной такой семье, помимо троих детей, Дэниса (13), Юлии (10) и Тобиаса (8), я иногда по субботам музицировал с их отцом – это уже бесплатно. То есть он так думал. Брать ведь можно не только наличными, но и возможностью изредка оказываться за большим семейным столом, среди взрослых и детей, живущих у себя . Так иногда мне доставалось местечко на чужом празднике, да еще хорошее: мы музицировали порой публично – тогда меня представляли гостям не иначе как герр Готлиб, камер-музикер. Сразу и из России, и из Израиля – вот какое чудо. Некоторые даже меня узнавали: ах, вы же первая скрипка в опере!.. Я слушала там третьего дня «Фиделио» – прекрасно.
Как евреи – народ Книги, так немцы – народ Нот. Они принимают музыку грузно, сытым нутром. От звуков их глаза не будут артистически лучиться, как у детей Средиземноморья. Для немцев музыка – не красота, она – истина (как уж тут быть вдохновенным исполнителем).
Сегодня меня ожидало совместное музицирование с упомянутым господином, отцом семейства, и еще с тремя – ему подобными. Предстояло терзать «Форель» Шуберта. Один, виолончелист, тащился за сорок пять километров ради этого (правда, в роскошном «БМВ» – так что не будем особенно его жалеть). Сегодня – это суббота тринадцатого декабря. Но не первой, а уже второй моей циггорнской зимы – что, впрочем, и понятно, раз в моем рассказе уже мелькал веселый месяц май (я строго хронологичен). Итак, больше года как я здесь. Теперь меня не узнать. Я даже приобретаю апломб – по мере того, как перестаю бояться синкоп. А недавно перестал откладывать «на черный день» – каюсь, был грех, поначалу я как сумасшедший копил деньги. Меня можно понять. С наступлением адвента в театре почти каждую субботу утром идет Гумпердинк, «Гензель и Гретель». Как старую тетушку, меня всегда волнует пантомима в конце первого акта: с радужными крыльями златокудрые ангелы стеной окружают двух уснувших в лесу детей – и всегда смешит бетховенский мажор в финале: ведьма побеждена. В эту субботу, отыграв очередное matinée, я стоял, озирая чуть прихваченную сияющим на солнце морозом площадь. Театр продолжался: нарядные дети и взрослые – а то и одни взрослые (последние же были взрослыми настолько, что еще в тридцать третьем году имели право голоса) составляли классический театральный разъезд. Вокруг играли шарманки. Уличные музыканты – духовые трио, квартеты, квинтеты – играли рождественские песни. Сновали толпы, отягощенные покупками. Народ нагло благоденствовал. Перед церковью Св. Амалфеи [62] на Рыночной площади, отделенной от Театральной строем универмагов, уже открылся рождественский базар. В двух шагах от меня прощались две кукушки: чю-ус, чю-ус. «Ку-кук, ку-кук – Eierschlück, Eierschlück» [63] – еще звучало у меня в ушах. Проводив их взглядом, а попутно и мотоциклиста, что, оседлав здоровенную «хонду», переходил вброд пешеходную зону, перебирая нелепо ногами, – я вдруг вспомнил: у меня где-то есть партитура «Форели», надо будет захватить ее сегодня с собой – вот и пригодилась. Дома, чтоб не забыть, я сразу решил ее приготовить. Прикинул, где она могла лежать: вместе с остальными нотами. Просмотрел: да, Сен-Санс, а вот и «Форель». Беру – и вижу такое, отчего, о… мурашки по коже…