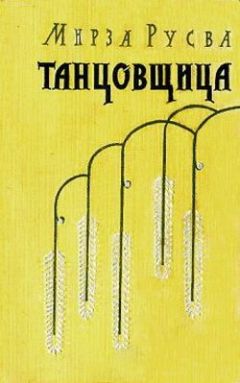Мирза Хади Русва - Танцовщица
Когда мы вошли, танец прекратился. Все, кто был в комнате, удалились.
– Это та самая девочка? – спросила Ханум Дилавара-хана.
Очевидно, они уже сговорились.
– Да, – ответил Дилавар-хан.
Ханум-джан ласково подозвала меня и усадила рядом с собой. Потом, приподняв мою голову, посмотрела мне в лицо.
– Хорошо! Вы получите столько, сколько я обещала. А как насчет другой девочки? – спросила она.
– С той уже дело сделано, – ответил Пир Бахш.
– За сколько продали?
– За двести.
– Что ж, неплохо. А куда она попала?
– Одна бегам купила ее для своего сына.
– Та была хороша! За нее и я дала бы двести. Ты поторопился.
– А что я мог поделать? И так и сяк уговаривал шурина, да он не послушался.
– Эта тоже недурна собой, – вмешался Дилавар-хан, – да и вам ведь она понравилась.
– Девочка как девочка…
– Ладно, какая есть, вся перед вами.
– Ты вправе хвалить свой товар, – сказала Ханум и позвала: – Хусейни!
Вошла толстая смуглая женщина средних лет и стала перед хозяйкой.
– Слушай, Хусейни!
– Что прикажете, госпожа?
– Принеси сундучок.
Хусейни вышла и вернулась с сундучком. Ханум открыла его и положила перед Дилаваром-ханом кучку монет. Потом уже я узнала, что за меня отдали сто двадцать пять рупий. Часть их, как говорили, пятьдесят рупий, отсчитал для себя Пир Бахш и завязал в свой платок. Остальное ссылал себе в кошелек подлый Дилавар-хан. Оба попрощались и вышли, В комнате остались Ханум, бува[36] Хусейни и я.
– Хусейни, – начала Ханум, – а не кажется тебе, что для такой девчонки это чересчур дорого?
– Дорого? Я бы сказала, дешево.
– Нет уж, никак не дешево! Ведь мордочка-то у нее совсем простенькая. Аллах ведает, чья она дочь. Ох, что-то теперь с ее отцом-матерью? Кто знает, где подцепили ее эти разбойники? Бога они не боятся! Бува Хусейни! Мы с тобой ни в чем не виноваты. Божья кара падет на них, подлецов; а с нас-то что спрашивать? Они все равно ее продали бы – не здесь, так в другом месте.
– Госпожа, да ведь у нас ей будет неплохо! Или вы не слыхали, каково достается служанкам у благородных хозяек?
– Как не слыхать! О таких случаях до сих пор поминают. Говорят, госпожа Султан Джахан служанку свою до смерти засекла, когда застала ее за болтовней с хозяином.
– Такие хозяйки что хотят, то и делают. Да покроются они в судный день вечным позором!
– Вечным позором! Этого мало – их бы в адский котел надо…
– Хорошо бы! И поделом им, злодейкам, – согласилась бува Хусейни и добавила просительным тоном: – Госпожа! А девочку-то отдайте мне. Я ее воспитаю. Она будет ваша, а я ей только послужу.
– Ну что ж, воспитывай.
Все это время бува Хусейни стояла. А тут подсела ко мне и завела разговор:
– Дочка! Ты откуда?
– Из Банглы, – ответила я, заливаясь слезами.
– Где это Бангла? – спросила бува Хусейни у Ханум.
– Эх ты! Ребенок ты, что ли? Банглой Файзабад называют, – ответила та.
– Как звать твоего батюшку? – продолжала Хусейни, обращаясь ко мне.
– Джамадар.
– Не приставай к ней, – укоризненно проговорила Ханум. – Откуда девочке знать его имя?[37] Она ведь еще маленькая.
– Ладно. А тебя как зовут? – спросила Хусейни.
– Амиран.
– Нам это имя не нравится, девочка, – сказала Ханум. – Мы будем звать тебя Умрао.
– Слышишь, дочка! – подтвердила бува Хусейни. – Откликайся на имя Умрао. Когда госпожа скажет: «Умрао!» – отвечай вежливо: «Да, госпожа!»
С того самого дня меня и называют Умрао. Впоследствии, когда я уже сделалась танцовщицей, меня стали величать Умрао-джан. Ханум до своего последнего вздоха звала меня просто Умрао; бува Хусейни – Умрао-сахиб.
Бува Хусейни увела меня к себе в комнатку, вкусно накормила, угостила сластями, вымыла мне лицо и руки и уложила спать рядом с собой. В ту ночь я увидела во сне своих родителей. Снилось мне, что отец вернулся со службы. В руках у него кулечек со сластями. Братишка мой играет. Отец вынимает и дает ему кусочек сладкого, потом кличет меня, а я будто в соседней комнате. Мама на кухне. Я увидела отца, и вот бросаюсь к нему на шею и со слезами рассказываю обо всем, что со мной приключилось.
Во сне я разревелась навзрыд. Бува Хусейни разбудила меня. Я открыла глаза и что же вижу: нет ни нашего дома, ни большой комнаты в нем, ни папы, ни мамы. Я плачу на груди у бувы Хусейни, а она вытирает мне глаза. Теплится ночник. Гляжу – по лицу старухи катится слеза за слезой…
Бува Хусейни оказалась очень доброй женщиной. Она была со мной так нежна, что я спустя каких-нибудь несколько дней уже позабыла своих родителей. Да и не мудрено! Как было не забыть? Во-первых, помнить о них было не в моей воле, во-вторых, «на новом месте новые мысли». Да и чего только у меня теперь не было! Самая лучшая пища, какой мне раньше и пробовать не случалось; платья, какие никогда и не снились; три девочки-подружки, Бисмилла-джан, Хуршид-джан и Амир-джан, с которыми я играла, – все это у меня было. Да еще целый день песни и пляски, сборища и зрелища, празднества и прогулки – чего мне оставалось желать? Каких других удовольствий?
Мирза-сахиб! Вы скажете, что, значит, я совсем бессердечная, если так скоро забыла родителей, увлекшись играми и плясками. Но хоть лет мне было еще немного, все же я, едва войдя в дом Ханум, словно почуяла сердцем, что придется мне теперь провести здесь всю жизнь.
Так новобрачная, входя в дом свекра, уже понимает, что здесь она не минутная гостья, а пришла сюда навсегда, чтобы все перенести и умереть тут. В дороге я натерпелась такого страху от проклятых разбойников, что у Ханум почувствовала себя, как в раю. Возвращение к родителям казалось мне чем-то совершенно несбыточным, а когда знаешь, что твое желание не может исполниться, оно остывает. Хотя от Лакхнау до Файзабада всего сорок косов,[38] мне в то время казалось, что это бесконечно далеко. У детей свои представления, не такие, как у взрослых.
3
Нет, не дано человеку жить только горем своим.
Время проходит неслышно, горе уходит за ним.
Мирза Русва-сахиб! Вы ведь, наверное, помните дом Ханум? Какой он был большой, сколько в нем было комнат! И в каждой обитали воспитанные ею танцовщицы. Бисмилла – дочка Ханум – и Хуршид были моими ровесницами; они еще не считались танцовщицами. Но, кроме них, в доме жили десять – одиннадцать девушек. Каждая из них занимала отдельную комнату, имела своих слуг, свою обстановку. Все они были одна другой краше, все увешаны драгоценностями, всегда принаряженные, в богатых одеждах. Другие танцовщицы и по большим праздникам не видят таких нарядов, какие мы носили в будни. Дом Ханум казался мне обителью пери[39] – куда ни загляни, только и услышишь, что смех и шутки, пение и музыку. Я тогда была еще маленькой девочкой, но ведь женщины проницательны от природы, и я уже чуяла свое предназначение. Видя, как поют и танцуют Бисмилла и Хуршид, я приходила в восторг и в свою очередь невольно принималась напевать про себя и приплясывать.
В ту пору началось мое обучение. У меня нашли способности к музыке, да и голос мой оказался неплохим. Когда я усвоила гаммы, мы перешли к простейшим мелодиям. Учитель мой начал с самых основ. Он заставлял меня заучивать на память различные мелодии и требовал, чтобы я их без конца повторяла. А мне смертельно надоедало исполнять их по всем правилам и всегда хотелось петь по-своему.
Сначала учитель (не дай бог душе его устыдиться!) не обращал на это внимания. Но вот как то раз, исполняя одну мелодию в присутствии Ханум, я, как всегда, принялась своевольничать. Учитель не поправил меня. Ханум велела мне повторить. Я опять спела так же, как в первый раз. Учитель снова не обратил на это внимания. Глаза у Ханум сердито сверкнули. Я взглянула на учителя – он утвердительно кивнул. Тут уж Ханум не стерпела.
– Господин учитель, что же это такое? – упрекнула она его. – Так петь не годится. Я вас спрашиваю, правильно она поет или нет?
– Не совсем.
– Так что ж вы ее не остановили сразу?
– Как-то внимания не обратил.
– Не обратили внимания?! Я нарочно заставила ее повторить, а вы все равно словно воды в рот набрали. Вот как вы учите девочек! Да спой она сейчас так же перед знающим человеком, он бы мне в глаза плюнул.
Учитель смутился и промолчал, но в душе затаил обиду. Наш старый учитель считал себя знатоком пения, да так оно действительно и было. Вмешательство Ханум его очень задело.
В другой раз, и опять при Ханум, я спросила учителя, как надо петь одно место, и он ответил мне неточно.
– Хан-сахиб! – возмутилась Ханум. – Сохрани боже! Сказать такое при мне!
– А что?
– И вы еще спрашиваете: «А что?» Да разве так можно петь? Попробуйте-ка сами!
– Да, вы правы, – признал учитель, едва начав.
– Так! Вот вы и посудите! Сами поете одно, а девочке говорите другое. Может быть, вы просто хотите меня испытать? Хан-сахиб! Конечно, я женщина не слишком одаренная. Хвастать не буду, голоса у меня нет, но чего только я не слышала вот этими своими ушами! Я тоже училась не у кого попало. Вам, верно, знакомо имя мияна[40] Гулама Расула? Так зачем же вы так поступаете? Если вы чем-то недовольны, говорите прямо, а не то уж, простите, я устроюсь как-нибудь по-другому. Извольте не портить своих учениц.