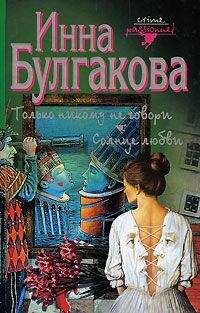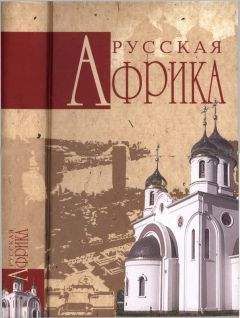Ален Бюизин - Казанова
По меньшей мере, смысл сразу становится ясен: эти чересчур заполненные водой места несут на себе бремя тяжелого смертоносного прошлого. От них разит смертью и потусторонним миром… Легкий плеск, первый и робкий перезвон колоколов, пока имя режиссера и название фильма высвечиваются на экране. Небольшой поклон самому себе… О себе так скоро не забудешь…
Затем наступает праздник. Но это только так говорится, потому что он жалким образом сорвется. Праздник очень языческий, я хочу сказать, ритуальное фетишистское поклонение Венузии, как в древние времена и на самом деле совсем не по-венециански. Более «священный», идолопоклонческий, нежели действительно вольный и веселый. Церемониал Рима времен упадка, на манер «Сатирикона», а не Светлейшей, которая всегда относилась к религии с недоверием и кощунством, практически изгнав из города на остров Святого Петра официальный папский собор. Венера и Кибела… Карнавал. Маски всякого рода: арлекины, полишинели, звериные морды, черти, драконы и т. д. Исступленное и ритмичное возбуждение толпы, подпрыгивающей в лад, словно участвует в политическом митинге. Абсурдные и гротесковые звуки римских труб, нелепые и неуместные в городе Монтеверди и Вивальди. Когда музыканты выстраиваются рядами на ступенях моста Риальто, можно подумать, что это игры в Колизее. Но вот из воды появляется большая женская голова, некий огромный греческий или этрусский идол, точно не знаю, впечатляющая, с завораживающими глазами навыкате, которую мы снова увидим в самом конце фильма под холодными водами Большого канала. Непристойные восклицания на венецианском диалекте: «Сочащаяся вагина, испражняющаяся щель, подземная старуха, смердящая карга, уготованная нам в супруги и матери, дочери и мадонны…»[113] В общем, здесь уже появляется «зияющая, всепоглощающая, обожаемая, разрушающая Матерь». Она вернется еще не раз. Фейерверк. Снова такое впечатление, что мы в Риме, на Капитолии в день триумфа, когда какой-нибудь Цезарь возвращается с победой из дальних походов на окраины империи, в африканские или азиатские страны. И потом – катастрофа. Надо думать, что канаты оказались недостаточно прочны: они надорвались, лопнули. Огромное лицо медленно погружается в грязные воды Большого канала. Несчастье, проклятие. Паника, отчаяние, суета венецианцев. Великолепный, такой феллиниевский кадр: огромные глаза, исчезающие в глубинах моря.
Пора уже понять: праздник кончился. Месса окончена. Это дурное предзнаменование для всего XVIII века Джакомо Казановы. Упадок и вырождение. Поддельный мир, полный золота, фальшивых самоцветов, перьев, парчи и бриллиантов, который разлагается и стремится к своему концу. Пресловутая «дольче вита» XVIII века кончилась, не успев начаться. Агония целой эпохи, самым агонизирующим симптомом которой станет Казанова. Смотря почти нехотя барочный и тератологический фильм Феллини, я сразу же пожалел о том, что его снял не Стенли Кубрик. Его светский и элитарный «Барри Линдон» гораздо более в стиле Казановы, чем фильм Феллини, неоспоримая красота которого систематически противоречит духу Джакомо.
Можно утверждать, что Федерико Феллини таким образом развенчал Венецию – город, который ошибочно идеализируют наивные влюбленные в гондолах. На самом деле он лишь воссоздал старые декадентские мифы конца XIX века о мрачной, вечно агонизирующей Венеции, в духе Мориса Барреса и Томаса Манна. «Смерть в Венеции» и все такое. На протяжении всего фильма нас будет преследовать непреодолимая враждебность Светлейшей, настоящая метеорологическая катастрофа. Жалкая и злобная Венеция под дождем. Ужасная буря в попросту страшной лагуне. «В лагуне появляются чудовищные очертания, похожие на привидения: скрученные колья, появляющиеся из воды; огромные клочья вырванной с корнем травы, плывущие по волнам, стволы деревьев, похожие на крокодилов: все это сметается яростным ветром под дождем, искажающим очертания». Сколько воды! Слишком много воды для Феллини, который в Римини ни разу не был на пляже и так и не научился плавать – он, римлянин с суши, человек, поселившийся на семи холмах. Воссоздавая искусственную Венецию, он усиливает всеобщий потоп, разжижает, растворяет ее, погружает в воду, под воду. «Воссоздать Венецию в “Чинечитта” стоит еще дороже самой Венеции, но мне нужна Венеция, где больше воды, где вода повсюду, – город, похожий на околоплодный пузырь, в котором Казанова живет своей воображаемой жизнью», – говорил сам режиссер в своих интервью. Впрочем, на протяжении всего фильма, где главенствуют зеленоватые оттенки аквариума, варьирующиеся между бирюзовым и ультрамариновым, жидкое возьмет верх над твердым: вода лагуны, вода Темзы, вода в бане великанши, хлещущий дождь, потоки вина и пива, оплывающие свечи, льющиеся слезы, потеки базальта и т. д.
Все та же сражающая наповал песня о материнской пуповине, которую Федерико Феллини лишь подхватывает вслед за многими другими: он заключает Казанову в околоплодный пузырь Светлейшей. Начиная с Жан-Поля Сартра и кончая Домиником Фернандесом, водный город Дожей побуждает всех проводить тот же диковатый психоанализ с материнской доминантой, которая в данном случае больше отражает воображение писателей, нежели действительность. Лагуна – «стратегическое убежище, но, возможно, и нечто большее: защита сродни материнской в этой вязкой, болотистой, грязной стихии, – пишет Доминик Фернандес. – Воды Венеции – не чистые воды: это воды насыщенные, сущностные, родовые, плазматические, первородная материя… Феллини, колосс масштаба Бальзака, чувствительный к первопричинам и скрытым силам, которые движут миром, был очарован первобытным тестом, из которого слеплена Венеция. Сквозь воды каналов он разглядел ил лагуны. Отсюда это внешне абсурдное, но на самом деле справедливое и глубокое требование – воспроизвести в павильоне для «Казановы» воду из пластмассы, густую, тягучую, «более подлинную, чем настоящая вода»[114].
Сартр, не растекающийся мыслию по древу, пишет прямо: «Сирота по отцу, путешественник теряется в материнских оболочках; к нему возвращаются темные и теплые воспоминания о сказочных пещерах… Путешественники, мы возвращаемся в раннее детство, в то время, когда нас еще не отняли от груди, в немое детство, без панциря и корсета, в котором мы жили с нашими матерями в немного влажном смешении плоти, где мы ни для кого не были объектом»[115]. Заставив Казанову родиться из вязкой воды плаценты, из которой, по правде говоря, он так и не вынырнет, Феллини впоследствии не преминет раздавить его огромной материнской массой. Это случится в дрезденской опере, когда люстры уже погашены на прусский манер, по-военному, а зал пуст.
С ожесточенным упорством он накрепко приковывает Джакомо Казанову к матери. Идеализирование образа матери и самоотождествление с его совершенством и всемогуществом. Его бесчисленные победы – сплошь доказательства власти матери: феи, королевы, волшебницы, удачи, Провидения. Во время ярмарки, показанной в фильме, странные и тревожные образы женских половых органов – татуированные, в картинке волшебного фонаря, в виде осьминога, хлопушки, улитки, – разумеется, находятся в огромном, еще теплом чреве китихи – Большой Муны. Что и требовалось доказать. Чем больше Казанова соблазнит разных женщин, чем плотнее он запрется в матке, тем вернее он подтвердит власть и могущество матери над собой.
Вот тут-то и появляется жалкий и смешной Казанова, белый как мел, похожий на призрак, со свечой, которую он нарочно поднимает и опускает, чтобы назначить и подтвердить свое любовное свидание. Бесстрастный. Замогильный. Потусторонний. Неживой человек. Дональд Сазерленд с бледным лицом набальзамированного Пьеро, ошеломленного и сбитого с толку, грустного клоуна, тогда как «настоящий» Казанова – по меньшей мере смуглый, цветом лица смахивал на мавра. В роскошном доме на Мурано, где коридор уставлен китайским фарфором с эротическими мотивами, а салон с камином из белого мрамора полностью состоит из зеркал в форме маленьких ромбов, чтобы отражать и умножать совокупления, происходит первая любовная сцена, пикантности которой придает страстный вуайеризм господина аббата де Берни, французского посла в Венеции и титулованного любовника монахини. Он наслаждается, наблюдая за любовными игрищами сквозь два крошечных отверстия – глаза двух серебряных рыбок, расположенных голова к хвосту и украшающих одну из стен. Монашка, возбужденная и похотливая, – в общем-то, немного тронутая, истеричная кукла. Кокетливая и неуемная, зажатая и нервная. Симптоматично: любовному состязанию задают ритм гротесковые движения странного механизма из позолоченого металла – птицы, совы или голубки, точно не знаю: во всяком случае, «птичка» по-итальянски означает пенис («сейчас вылетит птичка»), и кое-кому захочется предположить, что этот автомат, с которым Казанова не расстанется во все свое феллиниевское существование, – своего рода фетиш, позволяющий бесконечно продлить инфантильное отрицание кастрации, поскольку этот совершенно незрелый Казанова так никогда и не повзрослеет. Сова постоянно поднимается и опускается, вертит головой, раскрывает и складывает крылья со смешным и тщеславным видом. В точном соответствии с механическими движениями автомата, любовники, тоже отлаженные, как часовой механизм, «медленно сгибают, отводят назад, расставляют руки и ноги: позы сложные и странные, похожие на абсурдные и ритуальные движения, старинные и таинственные церемониалы». Несколько мрачноватый балет, выглядящий еще более механическим из-за тела монашки, которая хоть и обнажила свои красивые ягодицы, все же не сняла странный красный корсет, точно панцирь у насекомого, и белую шляпу, из-за чего она выглядит негнущейся, как манекен. Кстати, заметим, что Казанова за весь фильм ни разу полностью не обнажился. Во всех любовных сценах он остается в белом нижнем белье, полотняном корсете и длинных кальсонах, которые облегают его, покрывая странной сбруей, более подходящей упряжной лошади, нежели любовнику. Но для Федерико Феллини он как раз и есть лошадь, выполняющая тяжелую сексуальную работу. Во всяком случае, невозможность обнажения не позволяет любовникам прикасаться к коже друг друга и ласкать ее. Бесконечно повторяющийся половой акт – да. Интимный любовный контакт, соприкосновение обнаженных тел – нет, никогда.