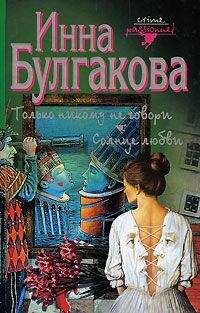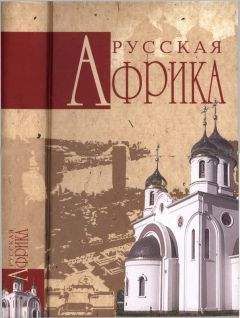Ален Бюизин - Казанова
В один прекрасный день 1760 года Казанова даже подумал сделаться монахом. Тогда, в начале апреля, он только что убежал из Штутгарта, где был подвергнут домашнему аресту, потому что отказался уплатить офицерам четыре тысячи луидоров, проигранные накануне на слово: надо сказать, что его накачали наркотиками, прежде чем он сел играть. Он прибыл в Цюрих, словно свалившись с небес в самый богатый город Швейцарии. Подавленный и удрученный, он подвел итог своей прожитой жизни и нынешнему положению. «Мне кажется, что я навлек на себя все удручавшие меня несчастья и злоупотреблял всеми милостями Фортуны по отношению ко мне. Сраженный бедой, которой я сам раскрыл ворота, я содрогнулся и решил перестать быть игрушкой Фортуны, вырвавшись из ее рук. Обладая сотней тысяч экю, я решил устроить себе постоянное положение, оградив его от всяческих превратностей. Полный покой – величайшее из всех благ» (II, 290).
На следующее утро он вышел из города и шесть часов шел по сельской местности, не зная, куда идет. Знамение Господне? Он увидел «большую церковь рядом с большим зданием правильной архитектуры, приглашавшим прохожих направить туда свои стопы» (II, 291). Так получилось, что он наткнулся на бенедиктинское аббатство Эйнзидельн, построенное в начале века в великолепном и зрелищном стиле барокко. Как мог его не поразить размах и необычайное богатство церковного убранства? Огромные своды, купола, восьмиугольник нефа, стены и хоры украшены фресками и гипсом под мрамор. Благосклонно принятый аббатом Николаем II, пригласившим его отобедать, он стал ему исповедоваться, хотя минутой раньше и не помышлял ни о чем подобном. «Это была моя причуда. Мне казалось, что я делаю то, чего хочет Бог, когда приводил в исполнение случайную мысль, залетевшую мне в голову» (II, 294). Глядя, как покойно живут бенедиктинцы, а главное, какая чудесная у них библиотека, состоящая сплошь из фолиантов, самым новым из которых не меньше века, он сказал себе, что мог бы жить здесь счастливо до последнего часа, не давая над собой власти Фортуне. Он почувствовал себя готовым постричься в бенедиктинцы. Сообщил аббату о своих планах стать монахом, тот попросил у него две недели на размышление, прежде чем дать ответ. На четырнадцатый день своего мнимого обращения он наткнулся на четырех очаровательных молодых женщин, прикинулся слугой, чтобы подойти к ним поближе, и в конце концов мысленно занялся любовью с самой хорошенькой из них, милой брюнеткой, одетой в амазонку. Вернулось желание. С планами похоронить себя в монастыре до конца своих дней было покончено. Когда на следующий день аббат согласился принять его в монастырь, ему пришлось признаться, что он передумал.
И вот двадцать пять лет спустя, в мае 1785 года, на Казанову вновь напал стих отречься от света и удалиться в монастырь. Он послал подряд три письма Доменико Томиотти де Фибрису, крестьянину из-под Тревизе, который стал генералом артиллерии в австрийской армии, графом и военным губернатором Трансильвании, сообщая ему о своих планах и одновременно предлагая свои услуги в качестве секретаря. Тот отнесся более чем скептически к его монашеской карьере, а по поводу предложения услуг попросту послал его подальше: «…мне вовсе не нужны секретари; у меня их здесь восемнадцать, и они добивают меня, заставляя читать и расписываться». Нужно ли принимать всерьез желание удалиться в монастырь, которое, возможно, было лишь предлогом, чтобы найти работу и жалованье? Тем не менее Казанова периодически мечтал об отдыхе, а покой для него символизировали два места – библиотека и монастырь. Такое ощущение, что усталость от беспрестанных разъездов порождала в нем стремление к уединению и покою, которое, впрочем, быстро исчезало, как только подворачивался новый случай отправиться в путешествие или новая женщина, которую можно было соблазнить. Монастырь так и остался для него в области несбыточного.
4 июня 1798 года, в летнем одиночестве замка Дукс, откуда уехали граф Вальдштейн с друзьями, за Казановой присматривал только его племянник Карло Анджолини и Финетта, его верная борзая, которую княгиня Лобковиц прислала ему в подарок из Билина взамен его дорогой покойной Мелампиги. Он умер через несколько минут после того, как священник причастил его святых даров. Угас в своем кресле – наверное, потому, что задыхался, лежа на кровати. Это самое кресло еще можно увидеть в его рабочем кабинете в Дуксе, к спинке сзади прибита бронзовая табличка с надписью: «В этом кресле 4 июня 1798 года скончался Джакомо Казанова». После скромного отпевания его похоронили на маленьком кладбище, которое находится позади часовни Святой Варвары. Малограмотный невежда, ведший учет смертей в приходской церковной книге, не упустил случая в последний раз нанести ему оскорбление, исковеркав его имя в вдвойне ошибочной записи: «4 июня, герр Якоб Кассанеус, венецианец, 84-х лет». Как и имя, так и возраст ошибочны: Джакомо было семьдесят три года, два месяца и два дня. «На могилу положили полагающийся случаю камень с небольшим железным крестом. Говорят, что крест очень скоро выломался и упал наземь, скрывшись в высокой траве», – пишет Ги Андор. Когда в 1922 году на кладбище проводили раскопки, то извлекли стелу с надписью «Казанова MDCCLXXXIX», которая, возможно, была воздвигнута на его могиле через год после смерти, однако останков его не обнаружили. Позднее на фасаде часовни Святой Варвары укрепили такую мрачную памятную доску:
JAKOB CASANOVA
Venedig 1725
Dux 1798
По правде говоря, не могло быть ничего печальнее для венецианца, писавшего по-французски, чем эта эпитафия на немецком языке.
XXXI. Лжеказанова Федерико Феллини
Конечно, Казанова и знать не мог, что через два века после смерти подвергнется несравнимо худшему поношению, нежели во время своего несчастливого пребывания в Богемии. ХХ век далеко не всегда был к нему милостив. Хотя знания о его жизни и творчестве постоянно пополняются благодаря дотошности казановистов, тем не менее Джакомо как никогда страдает от подлого коварства.
Все началось, и очень плохо, с «Казановы» Федерико Феллини – фильма, который только проиллюстрировал и подтвердил, с неоспоримым и страшным талантом, даже гениальностью, в утрированной пышности роскошного и сумасшедшего барокко, навязчивый и удручающий стереотип жалкого Казановы, неудачника, безвольного, презренного, сексуально озабоченного, который мог обаять только «разочарованных, закомплексованных, всех, кто лишен внутреннего света», как сказал сам Феллини в интервью «Фигаро».
Почти черный экран, и все в черном свете. Казанова терпеть его не мог: в «Искамероне», своем большом научно-фантастическом романе, он выводит теорию цветов, царившую у мегамикров – народа, обитавшего в центре Земли, – и подчеркивает, что для них черного цвета практически не существует, потому что свет не приемлет темноты. В самом начале фильма – сразу траур. Первоклассная похоронная процессия. Ни малейшего яркого проблеска в ознаменование великолепной карьеры распутника – солнечной, ослепительной, которую начал Джакомо Казанова – вольный авантюрист Европы в эпоху Просвещения. Здесь, наоборот, все начинается во тьме. Полное противоречие, которого уже не изжить с первых же кадров, почти тоскливых и депрессивных; на них одна ночная вода: черная, тяжелая, густая, мрачная, зловещая – в общем, свинцовая (точно тюрьма во Дворце дожей!). Мутные, «мертвые» воды, тревожное и странное ощущение того, чего больше нет, но все же еще есть. Нечеткое и смутное подрагивание жидкости. Неощутимые отблески, которые тоже почти мертвы. На все это мрачно накладывается музыка Нино Рота: «Самосожжение вдовы бедняка», в целом, более давящая и помпезная, нежели слегка и задушевно меланхоличная, колеблющаяся между мрачностью и ностальгией, чередующая басовые и визгливые ноты. Еле слышная, смутно волнующая музыка (разумеется, именно этот эффект она и старается произвести), в которой все-таки улавливается изначальный замысел. Так сказать, глубь веков, одновременно привлекательный и жалкий отзвук грязноватого и вязкого прошлого, не слишком-то приятного, если честно. В Венеции, в XVIII веке, но в еще большей степени в наши дни живущим на земле не до смеха… Вот и начались два с половиной часа озлобленности и мести, переиначивания и извращения…
По меньшей мере, смысл сразу становится ясен: эти чересчур заполненные водой места несут на себе бремя тяжелого смертоносного прошлого. От них разит смертью и потусторонним миром… Легкий плеск, первый и робкий перезвон колоколов, пока имя режиссера и название фильма высвечиваются на экране. Небольшой поклон самому себе… О себе так скоро не забудешь…
Затем наступает праздник. Но это только так говорится, потому что он жалким образом сорвется. Праздник очень языческий, я хочу сказать, ритуальное фетишистское поклонение Венузии, как в древние времена и на самом деле совсем не по-венециански. Более «священный», идолопоклонческий, нежели действительно вольный и веселый. Церемониал Рима времен упадка, на манер «Сатирикона», а не Светлейшей, которая всегда относилась к религии с недоверием и кощунством, практически изгнав из города на остров Святого Петра официальный папский собор. Венера и Кибела… Карнавал. Маски всякого рода: арлекины, полишинели, звериные морды, черти, драконы и т. д. Исступленное и ритмичное возбуждение толпы, подпрыгивающей в лад, словно участвует в политическом митинге. Абсурдные и гротесковые звуки римских труб, нелепые и неуместные в городе Монтеверди и Вивальди. Когда музыканты выстраиваются рядами на ступенях моста Риальто, можно подумать, что это игры в Колизее. Но вот из воды появляется большая женская голова, некий огромный греческий или этрусский идол, точно не знаю, впечатляющая, с завораживающими глазами навыкате, которую мы снова увидим в самом конце фильма под холодными водами Большого канала. Непристойные восклицания на венецианском диалекте: «Сочащаяся вагина, испражняющаяся щель, подземная старуха, смердящая карга, уготованная нам в супруги и матери, дочери и мадонны…»[113] В общем, здесь уже появляется «зияющая, всепоглощающая, обожаемая, разрушающая Матерь». Она вернется еще не раз. Фейерверк. Снова такое впечатление, что мы в Риме, на Капитолии в день триумфа, когда какой-нибудь Цезарь возвращается с победой из дальних походов на окраины империи, в африканские или азиатские страны. И потом – катастрофа. Надо думать, что канаты оказались недостаточно прочны: они надорвались, лопнули. Огромное лицо медленно погружается в грязные воды Большого канала. Несчастье, проклятие. Паника, отчаяние, суета венецианцев. Великолепный, такой феллиниевский кадр: огромные глаза, исчезающие в глубинах моря.