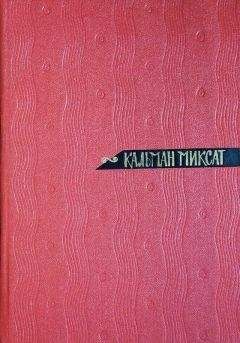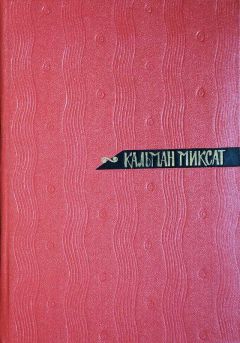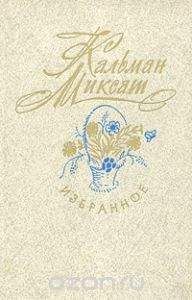Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
— И вернулся оттуда лишь утром. В колодец его!
Один из моих друзей и я попытались спасти Кандьолу от верной смерти, но добиться этого нам удалось лишь мольбами и уговорами:
— Друзья, не будьте дикарями! Ну, какой вред от этого презренного старикашки!
— Верно, — в припадке отчаяния подхватил Кандьола. — Какой может быть от меня вред, если я только и делал, что помогал нуждающимся? Пожалуйста, не убивайте меня. Я же знаю все: вы солдаты из Пеньяс де Сан — Педро и Эстремадуры, вы славные ребята, вы еще поджигали те дома в Тенериас, где я поймал цыпленка, которого потом уступил за унцию. Кто сказал, что я продался французам? Я ненавижу их, терпеть не могу, а вас люблю, как собственную плоть. Детки мои, отпустите меня с миром. Я все потерял, оставьте же мне хотя бы жизнь.
Эти причитания скупца, равно как просьбы моего друга и мои, несколько смягчили сердца солдат, и, поскольку первый взрыв ярости улегся, мы без особого труда спасли несчастного старика. А когда солдатам пришло время идти на позиции, чтобы сменить своих товарищей, Кандьола и вовсе оказался в безопасности; однако он даже не поблагодарил нас, когда мы, избавив его от смерти, предложили ему кусок хлеба. Вскоре, собравшись с силами, он вышел на улицу, где и встретился наконец с дочерью.
XXVII
В тот день французы бросили войска на штурм предместья на левом берегу Эбро. Они решили взять приступом монастырь Иисуса и обстреливали из пушек собор Пилар, где нашло себе убежище множество больных и раненых, полагавших, что святое место гарантирует им большую, чем где бы то ни было, безопасность.
В центре же в тот день царило относительное затишье. Все внимание было сосредоточено на сапах: мы изо всех сил старались доказать противнику, что, прежде чем он взорвет нас, мы постараемся взорвать его самого или, по крайней мере, взлетим на воздух вместе с ним.
Ночью обе армии, казалось, отдыхали. В подземных галереях смолк глухой стук заступов. Я вышел из монастыря и около Сан Дьего встретил Агустина и Марикилью; они сидели на пороге дома Привидений и спокойно разговаривали. Увидев меня, оба страшно обрадовались; я сел рядом и стал жевать черствый хлеб, которым молодые люди поделились со мной.
— Нам с отцом негде приютиться, — сетовала Марикилья. — Мы устроились в парадном одного дома в переулке Органо, но нас оттуда прогнали. Почему люди так ненавидят моего отца? Что он сделал плохого? Потом мы укрылись в маленькой каморке на улице Урреас, но нас выгнали и оттуда. Тогда мы расположились под какой-то аркой на Косо, но все, кто там был, немедленно ушли от нас подальше. Мой отец вне себя от бешенства.
— Душа моя, Марикилья, — сказал Агустин, — надеюсь, осада так или иначе скоро кончится. Пусть господь призовет к себе нас обоих вместе, если мы не можем обрести счастье на земле. Не знаю отчего, но, несмотря на такое множество бед, сердце мое преисполнено надежды и я все время думаю о нашем счастливом будущем. Почему бы нет? Неужели не будет конца несчастьям и бедам? Горе моей семьи безгранично. Моя мать не хочет слушать никаких утешений. Ее невозможно увести оттуда, где лежат трупы моего брата и племянника; мы силой оттаскиваем ее от этого места, но стоит нам отойти, и она уже ползет обратно по мостовой. На нее, на мою невестку и на мою сестру страшно смотреть: они отказываются от пищи, а когда молятся, то разум их туманится, и они путают имена господни! Сегодня днем нам наконец удалось увести женщин под крышу, где их уговорили немного отдохнуть и поесть. Марикилья, какую страшную участь уготовил господь моей семье! Так разве нет у нас оснований ожидать, что он сжалится наконец, над нами?
— Да, — отозвалась девушка. — Сердце подсказывает мне, что черные дни для нас миновали и на смену им придут спокойствие и благоденствие. Осада скоро кончится — по словам отца, это дело нескольких дней. Сегодня утром я ходила в храм Пилар. Когда я опустилась на колени перед святой девой, мне показалось, что она посмотрела на меня и улыбнулась. Потом я вышла из церкви, и сердце мое забилось сильнее от искренней радости. Я взирала на небо, и бомбы казались мне игрушками; я смотрела на раненых, и мне чудилось, что все они выздоровели; я глядела на людей, и мне представлялось, что душа каждого из них переполнена такой же радостью, как и моя. Не знаю, что сегодня творится со мной, но я довольна. Господь бог и пресвятая дева, без сомнения, сжалились над нами. Беспокойное биение моего сердца и это радостное волнение — все предвещает, что после стольких слез мы, наконец, обретем счастье.
— Ты права, — согласился Агустин, нежно прижимая к своей груди Марикилью. — Как ты сказала, так и будет; на тебя низошло божественное прозрение, и оно не обманет нас; когда я слушаю тебя, мне кажется, что пора страданий прошла, тучи рассеялись, и я с наслаждением вдыхаю воздух счастья. Надеюсь, твой отец не станет противиться нашему браку.
— Мой отец — добрый, — сказала девушка. — Если бы сарагосцы не унижали его, он бы, я думаю, стал человечнее. Но они видеть его не могут. Сегодня днем в монастыре Сан-Франсиско над отцом снова глумились, и когда он встретился со мною на Косо, то был в ярости и клялся отомстить за себя. Я попробовала успокоить его, но безуспешно. Нас отовсюду гнали, а отец, сжав кулаки и выкрикивая оскорбления, грозил прохожим. Затем он пустился бежать сюда; я думала, что он собирается посмотреть, не разрушен ли и этот наш дом, и поспешила за ним; он же, словно испугавшись шума моих шагов, повернулся ко мне и сказал: «Не лезь не в свое дело, глупая девчонка! Кто тебя просил идти за мной?» Я ничего не ответила, но, заметив, что он направляется к передней линии французов с явным намерением перейти ее, я решилась остановить его и спросила: «Куда ты, отец?» А он ответил: «Разве ты не знаешь, что во французской армии состоит мой друг, капитан швейцарцев Карл Линденер, который в прошлом году служил в Сарагосе? Я иду к нему: за ним, если ты помнишь, числится небольшой должок». Он приказал мне остаться здесь, а сам ушел. Я боюсь, как бы враги отца, узнав, что он перешел через линию фронта и отправился во французский лагерь, не объявили его изменником. Не знаю, может быть, слишком сильная любовь к отцу ослепляет меня, но я почему-то думаю, что он не способен на предательство. Я так опасаюсь, что с ним стрясется беда, и потому с нетерпением жду конца осады. Но она скоро кончится, правда ведь, Агустин?
— Да, Марикилья, скоро. И мы поженимся. Мой отец хочет, чтобы я женился.
— Кто твой отец? Как его зовут? Неужели и теперь нельзя открыть мне его имя?
— Я уже говорил тебе о нем. Он видный человек, и его очень любят в Сарагосе. Зачем тебе знать большее?
— Вчера я хотела выяснить, кто он, — ведь мы, женшины, так любопытны. Встречая знакомых на Косо, я расспрашивала их: «Не знаете ли вы сеньора, у которого погиб старший сын?» Но сейчас подобных отцов так много, что люди в ответ лишь смеялись надо мною.
— Все узнается в свое время; я назову его имя, когда приду к тебе с радостной вестью.
— Агустин, если я выйду за тебя замуж, увези меня на несколько дней из Сарагосы. Мне так хочется хоть немного посмотреть на другие дома, деревья, места, я хотела бы прожить несколько дней в других краях, а не здесь, где я столько выстрадала.
— Конечно, Марикилья, родная! — восторженно воскликнул Агустин. — Мы поедем, куда ты захочешь, далеко отсюда и завтра же… Нет, не завтра, конечно, потому, что осада еще не снята; но тогда послеза… словом, когда будет угодно богу.
— Агустин, — чуть слышно прошептала одолеваемая сном Марикилья, — а когда мы вернемся из нашего путешествия, отстрой заново дом, в котором я родились. Ведь кипарис все еще стоит там.
Марикилья склонила голову, почти побежденная сном.
— Бедняжка, ты засыпаешь? — сказал мой друг и обнял ее.
— Я не спала уже несколько ночей подряд, — ответила девушка, закрывая глаза. — Тревоги, горе, страх не давали мне уснуть. А сейчас я совсем засыпаю: так одолела меня усталость и так мне спокойно рядом с тобой.
— Усни в моих объятиях, Мария, — сказал Агустин, — и пусть спокойствие, преисполнившее твою душу, не оставит тебя, когда ты проснешься.
Некоторое время спустя, когда мы уже считали, что Марикилья уснула, она вдруг заговорила, словно в полусне:
— Агустин, я не хочу, чтобы ты прогонял нашу добрую донью Гедиту: она ведь нам так помогала, когда мы были женихом и невестой… Вот видишь, я была права: отец ушел к французам получать долг…
Тут она умолкла и заснула крепким сном. Агустин сидел на земле и, обняв Марикилью, держал ее на коленях. Я укрыл ноги девушки своим плащом. Мы с Агустином молчали, чтобы не потревожить сон бедняжки. Место было довольно пустынное: позади нас высился дом Привидений, примыкавший к монастырю Сан-Франсиско; перед нами находилась коллегия Сан-Дьего, ее сад был обнесен длинной глинобитной стеной, в которую упирались кривые и узкие переулки. По ним проходили часовые, заступавшие на пост или сменившиеся с него; маршировали отряды, направлявшиеся на позиции или в тыл. Вокруг царило полное спокойствие, но эта передышка предвещала лишь одно — завтра нам предстоят жестокие схватки.