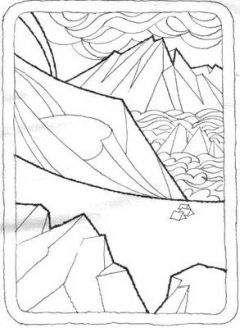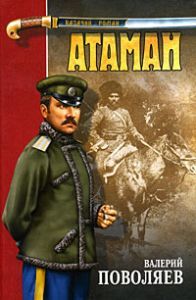Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
— Нарезать бы у него из ляжек мяса и пельменей с черемшой сготовить. Не то давно пельменей не ели.
Дядька Енисей был старшим в группе партизан; его команды выполнялись беспрекословно, если он скажет нарезать из пленного мяса для жарева или для пельменей — так оно и будет сделано, если скажет запечь на костре живьем вместе с картошкой — запекут. Дядька Енисей кинул одну картофелину Трофиму:
— Лови!
Тот поймал, сделал это ловко. Вторую картофелину старший кинул Гоше. Тот оказался менее ловок, картофелина шлепнулась на землю и подкатилась к ногам Чебученко. Гоша, тряся бородой и размахивая длинными руками, кинулся к хорунжему:
— Это не твое, это мое!
Схватил картофелину, с жадностью ее разломил. Запихнул в рот вначале одну половину, потом другую. Проглотил, не разжевывая, облизал губы черным, испачканным гарью языком:
— Вкусно!
Дядька Енисей также разломил картошку, съел ее без особого интереса, поглядел на пленного калмыковца. Произнес глухо, прокатывая слова во рту, будто кости:
— Ну, рассказывай, чем ты занимаешься у Маленького Ваньки? В какой должности служишь?
Чебученко болезненно перекосился и, сплюнув изо рта кровь, просипел что-то невнятное.
— Чего ты там фикстулишь, а? — дядька Енисей раздраженно подергал бородой. — Не слышу. Людей пытал?
Хорунжий, словно бы очнувшись, испуганно тряхнул головой:
— Нее…
— А по моим сведениям — пытал, — дядька Енисей, конечно, брал пленника на арапа, тонкостями допросов он не владел, как вытащить из человека самую тонкую жилу, чтобы тот выдал все от «а» до «я», ничего не утаив, дядька Енисей не знал, хотя всадить кому-нибудь из беляков в задницу шомпол поглубже, чтобы он вылез через ноздри, умел и иногда этим своим умением пользовался. Производил он эту операцию с удовольствием.
Дядька Енисей переместился от костра к пленнику, навис над ним большой мятой глыбой, подвигал бородой из стороны в сторону.
— Рассказывай, милок, — потребовал он, — не запирайся. Считай, что ты на исповеди, — дядька Енисей придвинулся к пленнику еще ближе. Тому сделалось страшно. Он задергал ногами, зазвенел шпорой, прилаженной к единственному сапогу, оставшемуся на нем, стараясь выбраться из-под страшного таежного человека.
Тот понимающе ухмыльнулся, показал зубы — крупные, как у людоеда, темные, прочные и острые.
— Итак, излагай, кем ты служишь у Маленького Ваньки? — ласковым, совершенно домашним голосом поинтересовался дядька Енисей, ткнул хорунжего ногой. — Ну!
— В первом полку служу, — просипел Чебученко сдавленно, — командиром сотни.
— А раньше кем служил? — задал неожиданный вопрос дядька Енисей, глаза у него сжались в две узкие щелки.
Чебученко невольно вздрогнул — он этого вопроса боялся — не дай бог выяснится, что он водил людей на допросы, а потом провожал в последний путь, — тогда этот бородатый леший сожрет его живьем, — вдавился лопатками в землю и засипел:
— Сы-ы-ы!
— Какой нервный беляк, — удивленно усмехнулся дядька Енисей, — давно такие не попадались.
— Ты чего, помочиться хочешь? — спросил таежный дядька. — Или уже под себя напруденил?
Тимофей приблизился к нему, понюхал воздух:
— Вроде бы не пахнет.
— Сы-ы-ы!
— Разговорчивый какой, — не переставал удивляться дядька Енисей, — то ли по-кошачьи, то ли по-свинячьи. Без толмача не обойтись.
— Лист кровельного железа, содранный с купеческой крыши, — самый лучший толкач, — рассудительным тоном произнес Тимофей.
— Это только в самом крайнем случае, — остепенил ретивого подопечного дядька Енисей.
Где-то далеко-далеко, на краю краев света продолжала раздаваться частая, заглушенная расстоянием стрельба. Дядька Енисей оттопырил одно ухо:
— Похоже, не кончается заваруха. То ли мы беляка, то ли беляки нас, — он вздохнул и перекрестился. — Прости, Господи, души наши грешные.
— Чего крестишься, дядька Енисей? — Тимофей растянул рот в плотоядной улыбке. — Ты же в Бога не веришь. Комиссар ежели узнает, тебе все, что растет ниже бороды, оторвет.
Старший набычился, борода у него неожиданно растрепалась, неряшливо распалась на две половинки, расползлась в разные стороны.
— Для этого он еще узнать должен…
Тимофей усмехнулся.
— Узнает. Он у нас мужик шустрый.
— От кого узнает? От тебя?
— He-а. Я не из породы доносчиков. Не из того материала сшит.
Дядька Енисей хапнул рукой кобуру маузера, передвинул ее на живот.
— Смотри, Тимоха! Ленин хоть и отменил Бога, а у нас в селе его никто не отменял, понял? Я живу по сельским законам, понял?
Тимофей усмехнулся вновь.
— Еще бы не понять.
— Смотри… иначе к этому вот кресту заставлю тебе приложиться, — он похлопал ладонью по деревянной кобуре. — Понял?
Тимоха хорошо знал, каким стрелком был дядька — муху укладывал на лету, таких востроглазых по всей дальневосточной тайге больше не сыщешь, поджал нижнюю губу под верхнюю, сразу становясь похожим на налима. Дядька Енисей хлопнул по маузеру еще раз и перевел взгляд на Чебученко.
— Ну что, офицерик, дрожишь?
Чебученко никак не отозвался, промолчал.
— Молчи, молчи, — пробормотал дядька Енисей вполне добродушно, — твое право… Только сейчас ты заговоришь так громко, что твой голос даже в Хабаровске будет слышно.
Чебученко продолжал молчать.
— Ну чего такого ты можешь сказать про своего Калмыкова, чего я не знаю, а?
Чебученко, не понимая, что будет происходить дальше, вновь засипел:
— Сы-ы-ы…
— Вот-вот, ссы да ссы, главное, чтоб штаны мокрыми не были.
Тимофей и его длиннорукий напарник притащил лист железа, уложили его на костер. Под железо, в свободное пространство, протиснули несколько смолистых суков.
— Офицерик наш живо в жареный пельмень превратится, — сказал Тимофей.
Дядька Енисей зубасто усмехнулся. Сказал хорунжему:
— Это по твою душу приготовления производятся. Чуешь али не чуешь? Запечем тебя и съедим.
— Сы-ы-ы… — Чумаченко задергался, подтянул к себе ноги, шпорой зацепился за сук, потерял зубчатое колесико.
— Чего там задумал против нас Маленький Ванька, не слышал? — дядька Енисей вновь страшноватой неряшливой глыбой навис над хорунжим, махнул у него перед носом большим черным кулаком.
— Сы-ы-ы. Откуда я знаю, что он задумал, — в хорунжем прорезался голос, речь сделалась внятной, он облизал окровавленным языком губы и выбил из горла закисшую пробку. — Я же не в штабе работаю.
— Те, кто работает в штабе, обычно знают меньше тех, кто там не работает, — неожиданно грамотно и складно произнес дядька Енисей.
Вид у него сделался умный, как у известного на весь мир профессора Менделеева, открывшего Периодическую таблицу. — Так что давай, докладывай, — он оглянулся на костер, — пока мы тебя на лист железа не завалили.
У хорунжего снова пропал голос.
— Сы-ы-ы…
— Вот и ссы, пока не захлебнешься. Сколько у Калмыкова войск в Хабаровске?
— Сы-ы-ы! Четыре тысячи человек.
— Четыре? — дядька Енисей недовольно сморщился. — Не загибай! По моим данным, две.
— Две — это было раньше, сейчас — четыре. Калмыков провел мобилизацию.
— Ловок Маленький Ванька, — дядька Енисей озадаченно покачал головой. — Фокусник, циркач! — Он вновь мазнул по воздуху черным кулаком.
— По мобилизации Калмыков и обрел такую силу… Сы-ы-ы!
Чебученко выложил дядьке Енисею все, что знал, но это не спасло его. Железный лист раскалился докрасна и на мерцавшую, поигрывавшую искрами поверхность швырнули хорунжего. Помучался Чебученко недолго — дядька Енисей пожалел его, поспешно поддел ногтями кобуру маузера и всадил пленнику пулю в лоб.
Лесной поход под командованием полковника Бирюкова продолжался.
Жителей деревни, в которой разведчики Чебученко обнаружили партизанскую засаду, согнали на вытоптанную земляную площадку, где по вечерам любила колготиться молодежь. Полковник, не слезая с коня, оглядел жителей и сказал Эпову: