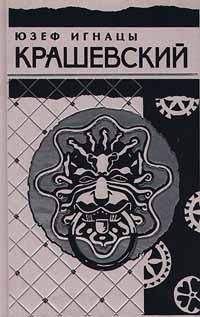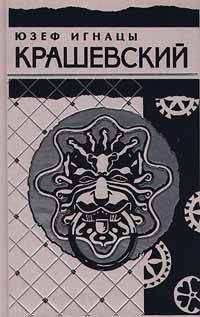Юзеф Крашевский - Сфинкс
— Поеду! — ответил, покоряясь, Ян. — Но не бойся, Ягуся, скоро вернусь. Пока дадут мне что-нибудь в счет.
В тот же день он пошел к Перли, но тот отказал.
— Своих нет, — сказал грубо, — там платить не намерены, пока все не будет кончено, не дам ничего.
От него Ян направился к Жарскому, который продал большую картину "Смерть Адониса" в Лондон и заработал на ней, а остальные работы Яна получил даром; но Жарский, тратящий деньги на раскрашенную бригадиршу, клялся, что ничего не имеет. Наконец, тронутый сожалением или совестью, вынул нехотя двести злотых и бросил, ворча, на стол. Художник при других обстоятельствах не принял бы оказанной таким образом помощи, но теперь дело шло о спокойствии больной Ягуси, которую нельзя было оставить без денег. Иона, с охотой ссудивший бы деньгами, оставался как последнее спасение, если бы все рушилось. Он и так при первом известии о болезни ребенка явился с деньгами и докторами, и просидел на лестнице в беспокойстве не один час.
Упросив опять Мамонича, который, ломая руки, распрощался с ним, Ян принужден был на третий день вечером проститься с Ягусей и уехать. Деньги, ожидаемые за работу, должны были пойти на путешествие в Варшаву. Тит обещал ехать с ними. Но судьба хотела иного. Пока Ян торопливо и полусознательно работает, заканчивая свои картины, Ягуся, не слушая Мамонича, дни и холодные вечера, и туманные утра проводит на могиле любимого ребенка.
Несколько раз Мамонич просил ее, умоляя беречь свое здоровье, стараться развлечься; она на это ему отвечала:
— Милый друг! На что я гожусь на свете? Для Яна я только помехой в жизни, я ему в тягость, приношу горе и страдание. Он меня любит и ради меня мучается. К чему мне здоровье? К чему мне жизнь? Пойду охотно к Ясю, чтобы освободить моего Яна и там ждать его. Все его несчастья начались с женитьбы. О! Не женись, Мамонич, — добавила она, — художнику не нужна жена! Нет! Нет!
И горько плакала.
Эти печальные мысли нельзя было рассеять. Ягуся начала слабеть, кашлять, целые дни проводила в кресле у окошка, с опущенными руками, со взглядом, устремленным в стену, плача над волосами ребенка. Ежедневно здоровье ее ухудшалось; а сообщить Яну Мамонич не мог, так как работа кончалась, и он вскоре должен был вернуться. К чему же усиливать беспокойство, раз невозможно ему приехать?
В письмах все-таки Мамонич упоминал о слабости и непобедимой печали Ягуси. Ян отвечал, что вскоре прибудет. Монахи обещали ему уплатить причитающуюся ему часть вознаграждения сейчас, так, чтобы ему не пришлось больше иметь дела с Перли. Несмотря на молчание Яна, к которому он обязался, его договор с живописцем, даже его условие, все обнаружилось и стало известным. Монахи возмущались неблагородным поведением псевдохудожника. Но в ответ на предложения жертвователя порвать мерзкий договор Ян говорил, что сдержит слово.
Мамонич был в самом ужасном положении. Ягуся явно угасала, а Ян не возвращался. Старания докторов, заботы друзей, ничто уже не могло вернуть расстроенного здоровья. Тит напрасно силился развлекать ее. Вспомнив, что раньше она любила голубей и не имея средств их купить, пошел на величайшее унижение, чтобы выпросить пару голубей, которых с клеткой принес ей в комнату. Но вид птиц, которые ей напомнили юность и лучшей время после свадьбы, вызвал лишь обильные слезы. Пришлось поскорее Титу и выпустить голубей, и выбросить клетку. Ему было стыдно, он волновался и сам себя ругал, что этого не предусмотрел.
Возвращения Яна ждали через неделю, а Ягуся ежедневно выходила к нему навстречу. Сначала эти прогулки и посещение кладбища оживляли ее немного, теперь на них не осталось сил.
Непрерывные заботы Мамонича, постоянное его пребывание около дома опять возбудили прежние сплетни. Его считали любовником Ягуси, пользовавшейся отсутствием мужа. Несколько раз до слуха Тита дошли насмешливые слова, наполнявшие его гневом; но он удерживал себя, зная, что этим только ухудшит положение.
Однажды во время прогулки смешки, насмешки, оскорбления, нарочно бросаемые, чтобы попасть прямо в сердце Ягуси, были настолько громки и ясны, что, несмотря на усиленное заговаривание Тита, женщина услышала их, сжала ему руку и быстро, задыхаясь, вернулась домой, горько рыдая.
Мамонич не сказал ни слова, но в бешенстве вылетел на улицу. Ему повстречался Мручкевич, который как раз своим громким разговором так досадил ему.
— Сударь, — сказал скульптор, хватая его за воротник. — Я знал, что ты глуп и подл, но не думал, что хочешь своим языком убивать людей! Что означали твои усмешки и слова во время прогулки?
Мручкевич покраснел, разобиделся.
— Не надо было их принимать на свой и ее счет — на воре шапка горит.
— Если не будешь держать язык за зубами, то я тебе его заткну в горло! — закричал Мамонич.
— Что означают эти угрозы, оборванец ты этакий?
Мамонич в ответ закатил ему здоровенную пощечину и добавил:
— Если хочешь драться, то жду тебя завтра.
Бросился Мручкевич на Тита, но кто-то его оттащил, и он ушел в ярости.
На другой день после столь публичного оскорбления немыслимо было избежать дуэли; условились, где и когда встретиться. Выбрали местом встречи Закрет. Мамонич с веселым лицом пошел к Ягусе и сказав ей, что важное дело отвлекает его на вечер, а может быть и на дольше в окрестности, оставил ей денег и побежал на место.
По дороге туда забежал еще к Ионе Пальмеру, но не нашел его; Иона уже уехал во Франкфурт, оставив Яну письмо. С этим письмом Тит поторопился на берег Вилии ждать противника, который явился позже расстроенный, злой, но еще больше бледный и испуганный. Если бы четверо людей не держали Мамонича, он бы изрубил его в куски.
Мириться было немыслимо. От сабель отказались, так как оба не умели ими драться, и дали им пистолеты. Дрожащей рукой выстрелил Мручкевич, смело и уверенно Тит; а между тем Мамонич упал с простреленной левой рукой, той, которую раньше изранил лев. Он успел лишь вскричать:
— Эта рука счастлива! Сначала лев, теперь осел! — и лишился чувств.
С раздробленной костью его принесли домой. Ягуся ничего об этом не знала; вечером того же дня вернулся Ян.
Радость жены могла теперь проявиться только слезами. Ян испугался, взглянув на ее изменившееся бледное лицо, заплаканные глаза, увядшие щеки. Он спросил, где Мамонич; Ягуся не знала. Вечер прошел весь в проектах, в мечтах. Письмо Ионы, присланное Титом еще перед приездом Яна, содержало в себе вексель на двести червонцев и нежное прощание, вызвавшее слезы у Яна.
"Если твои дела поправятся, — писал еврей, — то отдай это моим бедным братьям".
— Теперь можем ехать в Варшаву! — воскликнул художник.
— Подожди! — ответила жена. — Я чувствую себя странно ослабшей, больной… Похоронишь меня тут на могилках около бабушки, матери, сестры, нашего Яна и поедешь один. Будешь свободен.
Напрасно Ян умолял ее, чтобы прогнала эти мысли, чтобы ожила и развеселилась, уверовала в жизнь и будущее, напрасно, хотя с отчаянием в сердце, рисовал ей ожидающее их счастье. Ягуся молчала, улыбалась и, целуя его в лоб, повторяла:
— Это не для меня! Это не для меня! Мы все умерли так рано как я… мать, сестра, Ясь… едва вкусив жизни.
Ян испугался, увидев, что от кровати к окну надо было вести ее под руку, а посередине комнаты останавливаться для отдыха.
Страшная правда встала перед его глазами: Ягуся уже умирала, только медленно.
Созвали врачей, которые с равнодушием, обычным в безнадежных случаях, кормили какими-то общими надеждами и разошлись, предписывая чистый воздух, спокойствие и козье молоко.
Хороший это совет, когда человеку, измученному неизлечимым, непобедимым страданием доктор холодно скажет: "Нужно спокойствие, хорошее настроение, развлечения, отдых"… Да кто же этому не рад! О, Господи! Но откуда их взять, когда горе проникнет в грудь и вонзит в нее свои когти? "Будь спокоен, — говорят, — а здоровье вернется!" как если бы сказали: "Раздобудь себе жизнь, и будешь жив".
Лучше уж дать опий, чем такой совет.
Три дня спустя бедное дитя, неизведавшее в жизни ничего, кроме чуточки любви и моря печали, угасло.
Смерть ее была последней сценой поэтического сна. На несколько часов перед кончиной прояснилось чело, показался румянец, она почувствовала себя живее, веселее, здоровее, хотела одеться, взяла белое платье, причесала светлые волосы и попросила Яна достать голубя. Разыскали для нее белую птичку воспоминаний, которую она ласкала и забавлялась с нею, как ребенок.
Была весна и стоял прелестный день. Она просила, чтобы открыли окно; велела принести ветку черемухи и вдыхала аромат ее с наслаждением. Казалось, она просыпается после долгого глубокого сна. Ян поверил в улучшение и мечтал, что она будет жить. Но это были лишь остатки гаснущей жизни, пламя лампы, уже догоревшей.