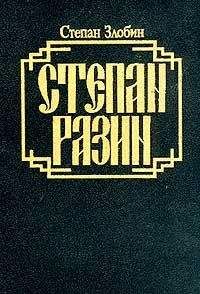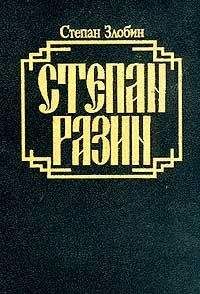Степан Злобин - По обрывистому пути
— Арсений Борисович, вы ошибаетесь. Спор идет о психологии. И философии, — несколько волнуясь, возразил ему Рощин. — Я не слышал политической темы.
— Охранителей трона — прокуроров и палачей — зацепили! — вдруг громко пояснил Илья. Луша, сидевшая рядом с Коростелевым, вся сжалась, узнав его голос, и не смогла оглянуться. Полицмейстер поднялся из первого ряда и, ступая на цыпочках, быстро пошел к выходу, звеня шпорами.
— Солдат тоже идет за общее благо страны, как он его понимает, и солдат убивает людей. Он тоже убийца, — после паузы спокойно продолжал Сафонов. — Но солдата все уважают. Потому что, идя на убийство, отнимая чужую жизнь, солдат отдает и свою жизнь, отдает бескорыстно свою жизнь за общее благо, как он его понимает.
Значит, вопрос не в сумасшествии, не в преступности, не в нарушении божьей заповеди «не убий», которую человечество нарушает всегда. Даже страшно подумать: ведь кого-нибудь убивают ежеминутно. И не многие из убийц раскаиваются и мучаются, как Родион Раскольников.
Однако же когда у Достоевского в «Братьях Карамазовых» поднимается речь о ребеночке, мучительная смерть которого принесла бы всеобщее счастье, то Алеша и Иван взаимно согласны, что они не дерзнули бы купить общее счастье этой ценой. Почему? Да потому, господа, что они не солдаты. Потому, что ради всеобщего блага все карамазовское отродье никогда не шевельнуло бы пальцем! Он и не в состоянии, неспособны поставить самих себя рядом, с этим ребеночком и принять мучительную смерть вместе, с ним.
— А вы способны? — с явной насмешкой перебил оратора Горелоз.
— Я вас не спрашивал, милостивый государь, — с достоинством ответил студент, — всегда ли вы лично сожалеете господ вышестоящих, когда они, обливаясь слезами, страдают, совершая свой «долг» в отношении ниже стоящих…
Зал словно взорвало аплодисментами. Рощин настойчиво звонил.
— Господин Горелов, господин Сафонов! Господа, прошу не переходить на личности, — сказал Рощин, получив из публики записку и беспокойно пробегая ее взглядом.
— Достоевский показывает, — продолжал Сафонов, — как в современном обществе гибнут невинные люди без пользы. Общество губит их, убивает без всякой целесообразности, и потому оно, наше общество в целом, сам наш общественный строй является морально преступным. Раздавленные, растоптанные Мармеладовы, Раскольниковы, которых оно толкает на каторгу, униженные Сони, гибнущие Илюшечки — вот вам нарисованная Достоевским картина общества!
Рощин ещё раз прочитал записку, нахмурился, озабоченно провел по лицу ладонью и, кому-то в первых рядах согласно кивнув головой, позвонил.
— Господин Сафонов, ваше время уже истекло, — объявил он.
— Я заканчиваю, — заторопился студент. — Итак, господа, нам нужно учиться по Достоевскому, который гениально видит и нам показывает, как в нашем обществе гибнут люди, но нам нельзя учиться у Достоевского, который беспомощно разводит руками и что-то невнятно бормочет о любви и о мещанском примирении с этой гибелью. Мы больше не смеем мириться с мучительной и бесцельной, гибелью членов общества, людей, погибающих бессмысленно и бесплодно. Мы должны, должны искать выход! — страстно воскликнул Сафонов.
— Какой же вы разумеете выход? — вызывающе громко спросил помощник прокурора.
— «Ищите и обрящете» — так говорил Христос! — ловко ответил студент, уже сходя с кафедры.
Публика с шумом, с аплодисментами, с гулом и говором хлынула из зала. Слушать заключение Горелова почти никто не остался, несмотря на настойчивые призывы председательского звонка.
Обмахиваясь от духоты шляпой, Коростелев разыскал в толпе Илью и вложил ему в руку свою шляпу.
— Наденьте, — шепнул он, — у входа, говорят, шпики. Дайте сюда ваш картуз.
Он ловко и неприметно завернул картуз в газету и взял под руку Симочку.
У освещенного шипучим газовым фонарем входа в зал сгрудились городовые, пристав и полицмейстер. Должно быть, шум в зале настроил их на ожидание уличной демонстрации. Городовые сдерживали толпу, давая время уже вышедшим разойтись.
Кого-то в студенческой фуражке все-таки задержали. Было слышно, как он спорил с приставом.
С пяток подозрительных штатских толкалось возле полиции под кустами сирени у фонаря.
— Не задерживайтесь, господа, проходите! Проходите, господа, проходите! — подчеркнуто вежливо твердили помощники пристава, стоявшие на дорожке.
У выхода из городского сада Луша нагнала в толпе Илью.
— Сумасшедший! — шепнула Луша, положив свою руку на его локоть.
Они дождались поодаль Любу и Наташу и, взявшись под руки, пошли домой.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Арестантский вагон с решеткой сменился пешим этапом, потом — пароходом. Партия ссыльных таяла, и под конец Володя один, на простой крестьянской телеге, вымокнув под тягучим сентябрьским дождем, прибыл с единственным конвоировавшим его от Енисейска местным представителем полицейских властей — «заседателем» — к сельскому старосте.
Староста, могучий, степенный мужчина в густой бороде, из тех, что ходят на медведя в одиночку, старательно щелкал костяшками счетов, заглядывая в какую-то бумагу. Он неодобрительно посмотрел на вошедшего Володю: исхудалый и обросший, он являл собою действительно жалкий вид.
— Студент? — спросил он, подняв нависшие брови.
— Не успел быть студентом, гимназию не окончил, — ответил Володя.
— Из дворян, однако? — продолжал староста.
— Из простых. Отец на железной дороге служил.
— Язви те! В емназисты послали! Небось хотели на доктора выучить или там как — на путейского, что ли, а ты во-он куда! Доигрался?!
— Доигрался, — с покорным вздохом подтвердил Володя, осматривая чистую, просторную избу сельского богатея, оклеенную обоями, увешанную фотографиями в рамочках, с большими портретами царя и царицы посередине стены. Перед огромным образом Николая-чудотворца горела зелёная лампадка.
— Мать, чай, плачет, однако? — смягчаясь, спросил староста.
— Куда там, ещё бы! — сокрушенно махнул рукою Володя.
— Ну, живи, — «разрешил» староста. — Я вас тут не обижу, поставлю… к-кому же, однако, поставить? — консультируясь, обратился он к заседателю.
— Может к Андрону Седых? — подсказал тот. — Избушка у них пустует.
— У Седых богомольно и чисто… Однако, сведи к Седых, не откажут: изба-то без дела, верно. — Он опять обратился к Володе: — Ну, живи, коль начальство прислало… Да чтобы порядок! — вдруг напустив строгий тон, сказал он внушительно. — Язви те… Смотри у меня — мужиков не мутить. Становой у нас знаешь каков? Чуть что — не к исправнику, а в губернию пишет. А напишет — тебя еще дальше, в Якутку зашлют… Намедни двоих закатали!
Володя смолчал.
— Ты что же, сирота, так, в этаком жидком пальтишке, и зазимуешь? — спросил староста, вдруг с сочувствием взглянув на выцветшую гимназическую шинель Володи. — Деньжонок-то хватит на шубу? Ведь так у нас нипочем и замерзнешь!
Он критически осмотрел нехитрый багаж Володи, в котором никак не могла быть уложена шуба.
— Надеюсь, пришлют, — скромно сказал Володя.
— Пожиточек тощий, однако! Руки-то годны на что?
Володя не понял.
— Ну, руки-то, руки!.. Полезное можешь работать? Сапожное дело или там что-нибудь как?
Заседатель пренебрежительно усмехнулся.
— Гим-на-зист, одно слово, Миколай Федотыч! Какая уж польза от них? Один грех!.. Пойдем, гимназист! — позвал он Володю, берясь за скобу.
— Постой, — осенило вдруг старосту. — Сядь-ка да косточки брось мне. — Он повернул счеты к Володе и пояснил: — Недоимок!
Володя защёлкал счетами, бегло посматривая на столбик цифр.
— Пятьсот шестьдесят семь рублей тридцать восемь копеек, — сказал он итог.
Староста сверился со своей бумажкой, пораженный быстротой и точностью операции.
— Грамотность, язви те! — одобрительно сказал он. — Ну, иди поздорову…
Изба Седых, куда староста направил Володю, была велика и в первый миг показалась даже слишком просторной.
Володю встретил суровым взглядом высокий чернобородый, лет тридцати с небольшим, чалдон в синей косоворотке под ватным жилетом, в пудовых сапожищах, с картинно расчесанными русыми волосами.
«Из древних землепроходцев», — подумал о нем Володя и поздоровался.
Аккуратно разложив на столе охотничий порох и дробь, хозяин сосредоточенно набивал патроны.
— Здравствуйте. Лба-то не крестишь? — строго спросил он Володю, едва успевшего переступить порог. — А как звать?
— Владимир.
— По отчеству как?
— Владимир Иванович.
— Скажешь, русский, однако, выходит! А лба-то не крестишь, Иваныч! Как так, однако? Из ентих?