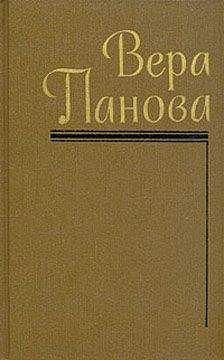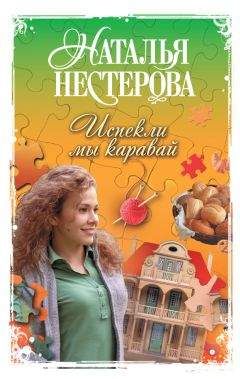Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
— Вот, еша, на что ещё смотреть! — презрительно произнёс надзиратель Нотович, смело бросаясь к первой скамье. — Сейчас, еша, отдавайте казённые ножички. Слышите, что вам говорят!
Он крепко схватил было своими жилистыми руками за руку Ярунова, стоявшего ближе всех к нему, но Ярунов, с судорожно искривлённым лицом, успел вырвать руку и, откачнувшись в сторону, взмахнул ножом.
В то же время Гольц и Акерманский, оба разом, подскочили к Саквину, стоявшему с краю второй парты, и вырвали у него ножик прежде, чем он опомнился. Ободрённые примером надзирателей, солдаты бросились к Артёмову. Стоявший на их пути Белокопытов растерялся и пропустил их, забыв о своём оружии. За Белокопытовым был Коновальченко. Он замахнулся было на них своим медным шандалом, но Долбега ловко поймал шандал за другой конец, грубо рванул его вниз и отшвырнул в сторону; между тем Исаич, схватив за руки самого Коновальченко, тащил его из-за парты.
Однако, и Нотович не побоялся ножика Ярунова. С быстротой, какой никто из нас не ожидал от этого лысого старика, он обхватил его под мышки так высоко и так крепко, что поднятая вверх рука Ярунова, вооружённая перочинным ножом, не могла даже пошевельнуться.
— Вот вам, еша, воин один! — с злобным смехом проговорил запыхавшийся Нотович, силясь вытащить Ярунова на середину класса. Но несколько рук уцепились сзади и за Ярунова, и за руки Нотовича, и не пускали их никуда.
Долбега с двумя другими солдатами уже перелезли через четвёртую парту, добираясь до Артёмова. Вдруг Артёмов вскочил на парту и бросился им навстречу. Лицо его было искажено гневом. В руках сверкал большой складной нож, которым нетрудно было насмерть убить человека.
— Прочь! — крикнул он не своим осипшим голосом. — Убью первого, кто подойдёт… Не дамся пороть! Права не имеете! Закона такого нет!
Он отчаянно и часто махал ножом по воздуху, чуть не задевая самого себя. Солдаты испуганно отскочили назад.
— Ваше высокородие! Они как раз убьют. Ножом пыряют! Изволите видеть, ножище какой! — обратился к директору Долбега.
— Канальи, трусы! — гневно пробормотал Румшевич. — Трое одного мальчишку одолеть не могут…
Он нагнул свою лысую голову, по которой волною перебегали налитые кровью синие жилы, и несколько мгновений стоял, задумавшись. Всё лицо его проступало то бледными, то красными пятнами.
— Ну хорошо! — громко крикнул он, приподнимая голову. — Оставьте этого разбойника. Ступайте прочь. Если так, я не стану нарушать их прав. Я хотел спасти твою участь, негодяй, но ты теперь погубил сам себя… Где секретарь совета? — строго спросил он, внезапно поворачиваясь назад к толпе молча стоявших за ним учителей.
Маленький учитель словесности в синих очках, с выпученными глазами и закинутою кверху головою, поспешно вышел из толпы, держа под мышкою какую-то книгу.
— Напишите сейчас протокол об исключении Артёмова из гимназии, с тем, чтобы никуда не принимать, и дайте подписать всем членам совета. А вы, Густав Густавыч, пошлите за дядей его, — обратился он к инспектору. — Сегодня же чтоб взял его отсюда, вон, вон! Чтоб и духу его скверного больше тут не было! Да снять с него всю казённую обмундировку, сапоги, и всё! Дать ему из старья что-нибудь, как арестанту!
И директор шумно вышел из класса, сопровождаемый учителями.
Тяжёлое, грустное чувство свинцовою доскою навалилось на нас всех. Всё наше геройство, все наши приготовления и боевые подвиги вдруг разом потеряли в моих глазах свой смысл и свой соблазн. Выпало само собой из моих рук бесполезное теперь, ставшее чем-то смешным и жалким, детское оружие моё — этот противный мне теперь медный кран, который я готов был забросить невесть куда. Уныло развязывал я, опустив смущённые глаза, туго затянутые узлы платка, от которых чуть не лопнула налившаяся кровью кисть правой руки. Сооружавшаяся с таким одушевлением баррикада из чёрных парт казалась мне теперь ребяческою глупостью…
Громкое бульканье и шлёпанье выливающейся из вазы воды, которого я почти не слыхал в горячности и торопливости своего бега, теперь неотвязчиво преследовало меня постыдным воспоминанием. «Что за дикая фантазия — вырвать кран из вазы и затопить целый коридор? — мучительно думалось мне. — Умный никогда бы этого не сделал, ни Алёша, ни Ярунов, ни Калиновский. Это только я, дурак, мог так отличиться. Теперь мне в гимназии проходу не дадут, все малюки-второклассники будут дразнить этим поганым краном. Нашёл, подумаешь, оружие какое, меч-кладенец богатырский… Разве воины настоящие кранами бьются или воду разливают?»
Жальче всех мне было Артёмова. Ну вот и наработали! Защитили товарища, нечего сказать. Чего добились? Что его сейчас, как каторжника какого-нибудь, с бубновым тузом на спине выгонят из гимназии. «Вот тебе и ножи, и подсвечники! — обиженно думалось мне. — Помогли много! Класс останется без Артёмова, без самого храброго и сильного из нас. Теперь нас, пожалуй, даже третьеклассники побьют. У них всё-таки Сергеевский, Хоменко, Кривоносов, а у нас только и будет, что один Бардин. А бедный Артёмов? Куда он денется теперь? Отца у него нет, дядя один, и тот совсем бедный, чиновник какой-то маленький в Казённой палате; на службу не примут, в училище никакое не примут. Вот и пропадёт, бедняга, ни за что. Вот тебе и помогли!» — душили меня слёзные размышления. Я не мог смотреть без мучительной сердечной боли, без жгучего укора совести, на фигуру бедного Артёмова, который в моём впечатлительном воображении уже перестал быть прежним Артёмовым, смелым и удалым, а представлялся каким-то упразднённым из мира, никому и ни на что не нужным бессильным существом. Он стоял в углу, казалось мне, так смущённо и растерянно, словно чувствовал, что ему тут больше нет места, что с этой минуты он стал здесь всем чужой, и что между нами и им только что разверзлась непроходимая бездна.
Всё это произошло так быстро, как во сне, так что мы просто опомниться не могли. Баррикады, ножи, вода, заливающая коридор, солдаты, директор, и потом громко прочитанный протокол, и Артёмов наш переодетый в рваную старую куртку, короткое, почти безмолвное прощанье беглым пожатием руки, — и всё промелькнуло, всё кончено, он исчез от нас навсегда в непостижимом для нас тумане неведомого, словно его и не было никогда с нами.
Ещё час тому назад он был одушевляющим центром всего нашего класса, нашим вождём, нашим героем, но вот мы сидим за обедом, а место Артёмова пусто, его уж след простыл, словно таинственная рука вычеркнула его из списка живых.
Директор Румшевич, хотя и суровый на вид, должно быть, всё-таки добрый человек. Никого из нас не наказали даже «без третьего блюда». Всё разразилось над злосчастной головой одного Артёмова. Может быть, сердитый серб сообразил, одумавшись, что ему самому не следовало подавать нам пример нарушения законов. Может быть, чувство справедливости подсказало ему, что мы не только бунтовали, но ещё и стояли, как умели, за честь и права своего класса, за своего товарища, которого считали невинным, стало быть, всё-таки в некотором роде «полагали души своя за други своя».
Как ни были грубы наши тогдашние гайдамацкие идеалы, как ни отчаянно шаловливы были мы сами, чувство законности сидело в нас глубоко. В третьем, во втором классе, где сечение розгами допускалось уставом гимназии, никому никогда в голову не приходило оказывать сопротивление начальству. Ребята саженного роста, чуть не двадцатилетнего возраста, просидевшие чуть не по целой олимпиаде в каждом классе, покорно, как младенцы, ложились на скамьи под розги и добродушно воспринимали отпускаемые им щедрые порции, отчаянно вопя, прося прощенья, зарекаясь другу и недругу больше не шалить и не лениться. Но устав запрещал наказывать розгами учеников старших классов, и вот на защиту этих-то законом обеспеченных прав восставали каждый раз, когда начальство пыталось нарушить их, законолюбивые четвероклассники, пятиклассники и вся их шумливая братия.
Во всяком случае, это чувство законности, хотя и выражавшееся в грубых и самовольных формах, эта готовность принесть свои личные интересы в жертву общего дела во имя нарушенной правды, как бы своеобразно и даже ошибочно ни понималась эта правда, — были гораздо честнее и нравственно отраднее, чем рыбья безличность и рыбье равнодушие, которому мы, к сожалению, так часто бываем свидетелями. Только на почве этой способности к самоотвержению, проявляющей себя даже в неразумном детстве человека, могут воспитаться в нём впоследствии те строгие чувства гражданского долга и нравственной ответственности, которыми бывают сильны и государства, и общества.
Я сам потом был долгое время педагогом; был учителем, инспектором, директором. Дети везде дети, и шалости — везде шалости. Но, положа руку на сердце, я могу сказать, что ни разу во всю мою воспитательную практику я не имел дела с такими ученическими волнениями, которых нельзя бы было тотчас же успокоить простым вмешательством доброго и разумного человека. В этом я сошлюсь на многочисленных учеников своих, которые уже давно стали сами отцами семейств и воспитателями детей. И когда я вспоминаю истории собственного детства, вроде рассказанной мною сейчас, я как будто заново переживаю тогдашнюю психологию своего духа.