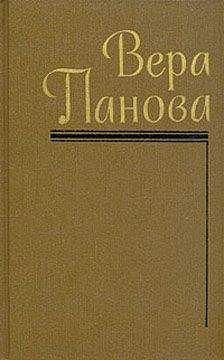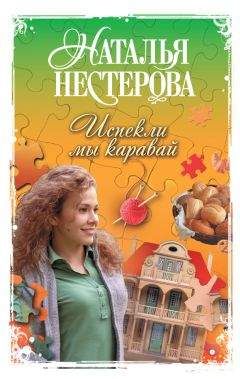Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
В доме нашем и в хозяйстве, благодаря Бога, всё благополучно, за исключением только того, что караковый жеребец Туз, по вине негодного конюха Антипки, сломал себе правую переднюю ногу, за что названный Антипка и подвергся, конечно, заслуженному им наказанью. Засим посылаю вам своё заочное родительское благословение, и остаюсь любяший вас отец Андрей Шарапов».
Папенькино письмо переполнило нас всех восторгом. Мы чувствовали себя совсем свободными от ненавистной гимназии и восторжествовавшими над всеми злыми кознями разных Нотовичей, Гольцов, Акерманских и остальных своих многочисленных врагов.
Хотя Борис строго-настрого запретил нам разбалтывать товарищам эту важную новость, чтобы не возбудить против себя раньше времени учителей, инспектора и директора, и как-нибудь не помешать этим удачному окончанию экзаменов, мы с Алёшей не утерпели, и под страшным секретом в тот же вечер сообщили великую тайну Белокопытову и Саквину. Мы так ликовали внутренно, что по нашим лицам всякий мог сразу догадаться, что с нами должно было случиться что-нибудь необыкновенное.
Мы ходили, перешёптываясь с Алёшей об ожидавшем нас счастии, словно приподнятые на крыльях. Воображенье обгоняло время, и две недели, остававшиеся до конца экзаменов, казались нам ничтожным промежутком, который незаметно промелькнёт не нынче-завтра. В этом переполнении сердца радостными ожиданиями мы с каким-то презрительным снисхождением смотрели на выходки нелюбимых надзирателей, и их противные фигуры вселяли в нас не столько отвращенье и страх, как это было прежде, сколько высокомерную жалость.
Но после первых увлечений ожидавшею нас свободою в душу нашу прокрадывалось щемящее чувство. Хотелось бежать от Гольцов и Нотовичей, торжественно наплевать на них и показать им при всём честном народе, что они шиш взяли с нас, но вместе с тем ужасно не хотелось расстаться с тесным дружеским мирком Белокопытовых, Саквиных, Яруновых, всех этих славных ребят, готовых грудью стать за нас, разделявших с нами все наши радости и беды, и глядевших на нас, как на оплот и надежду дорогого для всех нас четвёртого класса. Сколько было у нас передумано и переговорено с ними вместе, сколько настроено фантазиею общих радужных перспектив, что разорвать эту крепкую сердечную связь, уйти навсегда в другой мир, где уже никогда не встретишь ни одного из этих верных друзей своих, — это казалось нам чем-то чудовищным и возмутительно неблагодарным. Сердце обливалось горечью при одной мысли об этом, и слёзы готовы были ежеминутно брызнуть из моих чересчур впечатлительных глаз, когда Белокопытов или Ярунов начинали говорить о предстоящей нам скорой разлуке. Услужливое воображение наше прибегало к самым натянутым выдумкам, чтобы убедить себя и своих друзей в возможности самых невозможных комбинаций, долженствовавших опять соединить нас в самом скором будущем в такую же дружную семью, в какой мы теперь жили. Все наши бесчисленные распри и ссоры были вконец забыты, и нам теперь, в приливе растроганного дружеского чувства, казалось совершенно искренно, что никогда ни одно облачко не омрачало во все эти протёкшие годы наших братских отношений к милым нашим товарищам, и что они были гораздо ближе к нам, чем это было в действительности.
Пушкин, поэт всех искренних движений души человеческой, метко выразил это сложное и странное чувство прекрасным стихом:
Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей;
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее самого свиданья…
Те, кого покидаешь, кажутся чем-то вроде умирающих для тебя, которым невольно стремишься всё простить, всё забыть, о которых вспоминаешь только одно хорошее. И чем острее ощущаешь былые резкости и несправедливости свои к ним, своё невнимание и обиды, тем добрее и милее кажутся они, тем большею жалостью потерять их охватывается твоё детское сердце.
Но эта жалость не мучительное, безнадёжное сознание зрелого опыта преходимости и непрочности всего земного, а трепещущая розовыми надеждами, смелая вера молодости в неизбежное счастье будущего. Эта сладкая тревога неясных ожиданий, эта инстинктивная жадность перемен и движенья и есть, в сущности, то чувство жизни, та радость бытия, которые составляют главное содержание и самое драгоценное свойство молодости. Ни в чём не живёт человек так полно, как в этих таинственных приготовлениях себя к неведомым перспективам будущего.
Как отрадно видеть глазами расстилающиеся кругом неохватные дали лица земного, это конкретное воплощенье жизни Божьего мира в пространстве, так увлекательно обозревать внутренними очами духа такие же безбрежные дали молодых надежд и стремлений, — это выражение мировой жизни уже не в пространстве, а во времени. Тут две разные стороны одной и той же основной потребности души человеческой.
Совсем иное дело, когда жизнь человека убыла уже настолько, что с жутким чувством думаешь о надвигающемся конце её, когда человеком пройдено и узрено слишком много всяких пространств, всякого времени, и в нём уже исчез юношеский аппетит к новому и неведомому, к вечным переменам и вечным надеждам, а напротив того, хочется замкнуться во что-нибудь неподвижное и определённое, выдерживать в несокрушимой твердыне грозную осаду жизни, и обеспечить себе хотя то скромное духовное достояние, которое уже им добыто.
Какой смысл рваться вперёд тому, кто уже ясно видит, что впереди хмурится, поджидая его, роковая чёрная яма, поставленная ему пределом, в которую и без того безостановочно толкает его судьба?
***К нам тоже все товарищи сделались снисходительнее и деликатнее. Они чувствовали, что скоро нас не будет среди них, что мы здесь уже вроде чужих, вроде гостей, с которым нужно обращаться поласковее. Белокопытов, Ярунов, Саквин, Бардин, — все стремились как можно больше с нами говорить. Они тоже стремились заслонить добровольными иллюзиями перспективу нашей внезапной разлуки с ними, но сами мало верили в свои фантазии.
— Нет, Шарапчик, всё это ты так говоришь, себя только утешаешь! — с искренним вздохом сказал откровенный Бардин. — Уедете вы к себе в Степнопольск, поступите в другую гимназию, кой чёрт вас тогда заманит сюда? У вас отец богатый, повезут вас после гимназии в Петербург, в Москву, мало ли куда, в какие-нибудь заведения хорошие… Где там разыщешь вас? Да я думаю, и сами-то вы всех нас позабудете, новые товарищи пойдут, поинтереснее нашего брата-запорожца. Уж это, брат, верно, как там ни верти!
— Вот ещё вздор! — горячо протестовали мы с Алёшей, искренно обиженные такими скептическими предположениями Бардина. — Разве ты считаешь нас какими-нибудь подлецами, чтобы мы могли забыть товарищей? Честное слово, мы через год перейдём опять сюда, дай только убраться отсюда этим мерзавцам пшикам и штрикам… Нам прямая выгода здесь кончить курс. А что всю эту сволочь выгонят очень скоро отсюда по шеям, начиная с самого пузатого Шлемма, за это можно чем хочешь поручиться. Неужто ты думаешь, так им подарят артёмовскую историю? Как бы не так! Слышал вчера, Невзоров-волонтёр рассказывал, что генерал-губернатор об этом министру собственноручно написал? Ну вот видишь! А Невзоров, брат, в самых важных домах бывает, его отец тоже штука большая, ему это лучше всех известно. Вот их, голубчиков, и попрут подобру-поздорову. А учителя народ отличный, хорошо нас знают. Он учителей мы никогда бы отсюда не ушли.
— Да, рассказывай сказки! Уж берут, брат, отсюда, так назад не переведут. Это разве шутки?
— А вот увидишь! — самоуверенно настаивал Алёша. — Мы прямо скажем папеньке и маменьке, что здесь нам гораздо легче будет. Даже очень может быть, что нас не отдадут опять в пансион, а будем мы волонтёрами.
— Бабушка зимою собирается из Чугуева сюда переехать, вот и будем у ней жить. Честное слово. А уж нам на двоих бабушка большую комнату даст, она богатая и добрая. Тогда и будем сходиться с вами каждую субботу.
— Мы попросим бабушку, чтобы она сказала, будто мы родственники, а родственников не смеют в отпуск не пускать.
— Весело тогда будет. В Добринский лес будем с вами пешком ходить, в Угримский монастырь… Напечём, наварим всего, и марш!
— Ведь придумают тоже, эти Шарапчата! — со смехом вмешался Ярунов.
— Бабушка ваша, я знаю, генеральша, и уж наверное спесивая, как все эти барыни-аристократки; так она, я думаю, сочтёт за низость даже взглянуть на нас, а не то, что в родственники себе приписывать; чудаки вы, право, Шарапчата. Подумаешь, вы никогда с людьми не жили.
— Ну да, а ты много, должно быть, жил с людьми! — обиженно защищался Алёша. — Где ты аристократок видел, скажи на милость? На своём пырятинском хуторе, что ли? А если хочешь знать, так бабушка наша, даром что генеральша и фамилии знатной, а гораздо добрее и проще держит себя, чем какая-нибудь твоя мелкопоместная дворянка.