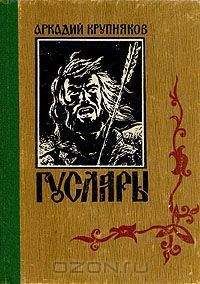Наталья Султан-Гирей - Рубикон
Октавиан от волнения никак не мог попасть в рукава. Агриппа помог ему одеться.
— Ты даже не спрашиваешь куда? Ты веришь мне, мой Дорогой?
Октавиан молча кивнул. Слезы душили его.
II
На улице два светлоусых великана в полном вооружении подошли к ним. Агриппа сделал знак, и телохранители молчаливо последовали за ними.
Они долго плутали по узким боковым улочкам. Октавиану показалось, что они бесцельно кружат, точно стараясь замести следы.
— Ты хочешь меня похитить?
Агриппа от изумления даже остановился.
— Ну, знаешь, еще земля не родила человека, чтоб сам у себя овечку украл! Зачем же мне тебя похищать?
Октавиан промолчал. Он отлично понимал: никто, конечно, сам у себя овечку не украдет, но ведь бывает, по сходной цене овечек, даже очень любимых, продают соседям на мясо.
Они свернули на убегающую вверх по холму тропку. Агриппа так же молча знаком отпустил галлов-телохранителей.
Оглядевшись, Октавиан узнал пригородные владения своего полководца.
— Да это ж твоя вилла! К чему такая таинственность? — Он опустился на поваленное прошлогодними бурями дерево. — Я вправду устал. Знаешь, я сейчас почему-то вспомнил Александра. На пиру он получил записку. Царя предупреждали, что Гефестион, его лучший друг, бросит в чашу яд. Когда Гефестион поднес Александру эту чашу, царь, не колеблясь, осушил ее и сказал: "Если б в чаше был яд, я все равно бы выпил. Легче умереть, чем разувериться в друге". — Октавиан помолчал и уже тише спросил: — Ты любишь Македонца?
— Нет, — сухо ответил Агриппа.
— Но он завоевал весь мир!
— Он своими бесконечными походами разорил Македонию. Благодетель всего мира! — Агриппа сплюнул сквозь зубы. — На что мне власть над миром, если пиценские дети станут умирать от голода!
— А сам ты все говоришь: Египет...
— А-а... — протянул Агриппа. — Это дело другое. Нам их пшеница нужна. Вставай, мой император, сейчас ты увидишь своих легионеров, поистине непобедимых!
Подойдя к винному погребку, он долго в темноте возился с замком. Открыв наконец окованную железом дверь, нашел ощупью кресало и огниво и высек огонь. Плотно прикрыв вход и задвинув внутренний засов, засветил факел.
— На, держи! — Он сунул светильник в руки Октавиану, остолбеневшему от страха и таинственности. — Пошли!
Они спустились на несколько ступенек. Своды нависли ниже, шаги зазвучали глуше. Факел, задыхаясь, зачадил, но Октавиан успел разглядеть целые полчища могучих крутобоких бочонков.
— На что тебе столько вина? Ты же почти не пьешь.
— Для гостей, и в подарок нужным людям годится. Не всякого деньгами купишь. — Агриппа подошел к огромной сорокаведерной бочке и, поднатужившись, сдвинул ее. Быстро опустившись на колени, ножом приподнял плиту пола и отбросил. — Наклони факел!
Октавиан вскрикнул от восторга и изумления. У его ног в глубокой яме, переливаясь и искрясь, мерцало золото: груды золота, монеты, слитки, украшения, усыпанные драгоценными самоцветами. Он еще в жизни не видел столько сокровищ, собранных в одном месте! Агриппа стоял в яме по колено в россыпях золота. Зачерпнув горстью тяжеловесные старинные денарии, он высыпал их к ногам Октавиана.
— Аве Цезарь император! Эти малютки — твои легионеры, и они непобедимы!
— Откуда? Это откуда? — растерянно повторял Октавиан. — Теперь ты богаче Мецената!
— Будь оно проклято, это богатство! — Агриппа подтянулся на руках и выпрыгнул из ямы. — из-за него я загубил и совесть и честь. Ограбил старика и надругался над девушкой! Над какой девушкой! На коленях я должен целовать ее язвы, а я надругался над ней!
— Прокаженная, что ли? — Октавиан брезгливо отодвинулся. — Говори толком.
— Нет, она не прокаженная, — медленно проговорил молодой полководец. — От долгого голода у человека открываются язвы и струпья покрывают тело. А она голодала много месяцев, голодала среди изобилия и не нарушила своей чести. Голодала, носила на обезображенном теле одежду раба, работала как раб и кормила старика отца, а их сокровища тлели в тайниках. И я надругался над ней! — Агриппа в отчаянии схватился за голову. — Но да поразит меня Иов Стрела Громовая, да пронзит мою грудь в первом же бою Марс Мститель, Копье Огневое, если я хоть обол из этого проклятого золота истрачу на свои прихоти!
— Не надо так страшно клясться, — Октавиан потянул его за одежду, — уйдем, кариссимо!
III
Пламя в очаге уютно потрескивало. К смолистому запаху горящего можжевельника, побеждая его, примешивалось дыхание весенних цветов.
На столе в маленькой эгейской чаше меж глянцевитых листьев белели ландыши. Октавиан обрадовано подбежал и зарылся лицом в их нежную свежесть.
— А еще говоришь, что не любишь...
— Оханья над цветами не люблю. А цветы? Что же в них плохого? Тебя порадовать хотел. Плохо без меня было? — Агриппа поставил на стол каменную миску с дымящейся похлебкой: — Ешь, друг! Сам готовил. Тут не умеют.
Октавиан с жадностью принялся за еду. Заметив, что Агриппа разглядывает его, смущенно засмеялся:
— Я три дня не ел. Нет, больше — дней пять не мог куска проглотить.
— Думал, что я сбежал? Нет, Кукла, я горец!
— А я это всегда знал. — Октавиан кивнул с набитым ртом и, справившись с увесистой клецкой, спросил: — А Все-таки откуда эти сокровища? Неужели ты обольстил жрицу и ограбил храм?
— Это приданое моей жены, — серьезно ответил Агриппа.
— Наверное, она дочь Креза? — недоверчиво пошутил император.
— Нет, Лелия — дочь Аттика. — Агриппа коротко рассказал печальную историю своей женитьбы.
Октавиан прикрыл глаза рукой.
— Как странно, мы оба полюбили одну и ту же девушку!
— Я ее не люблю.
— Не любишь, а так восхищался! На колени готов был упасть, — уколол Октавиан. — Не хочешь признаться, что влюбился без памяти.
— Восхищаюсь, но, к несчастью для нас обоих, не люблю. А тобой, мой повелитель, я совсем не восхищаюсь, ни столечко, — Агриппа показал кончик мизинца, — но люблю.
— Это уж совсем непонятно. — Октавиан обиженно засмеялся. — Раз я восхищаюсь, значит, мне нравится, значит, я люблю.
— Совсем не значит. — Агриппа вздохнул. — Я уверен, что Ахилл восхищался Гектором куда сильней, чем своим мямлей Патроклом, но любил-то он Патрокла, а Гектора вызвал на поединок и убил твоего прадедушку.
— Почему же ты решил, что Патрокл трус? Гомер не стал бы воспевать труса.
— Не трус, а мямля. Дал убить себя в первом бою. — Агриппа встал и прошелся по комнате. — Убивают тех, кто дает себя убить. В скольких боях мы с тобой были, я не прятался за чужие спины, а на мне ни одной царапины. Я увертливый. Кожей чую, когда надо увернуться. А он не мог. Для победы нужна не только храбрость, но и чутье, что ли. Твой Марцелл думает, что я самоуверенный глупец, считаю себя выше Цезаря и Александра. Но видишь ли, Кукла, — Агриппа опустился на биселлу рядом с другом, — и Цезарь, и Македонец сверху вниз на мир глядели и многого не видели, а я снизу вверх гляжу и все подмечаю, чего сверху не разглядеть. Я очень долго изучал походы и Дивного Юлия, и Великого Александра. Скольких ошибок можно было избежать! Сколько жизней сохранить! Да ты не слушаешь, о чем ты думаешь?
— О твоих словах. Ты сказал, и я согласен с тобой. — Октавиан задумчиво посмотрел на вазочку с ландышами. — Риму нужен другой император.
— С другим бы я не ужился, — резко оборвал Агриппа, — ушел бы к пиратам. А с тобой мне хорошо, — прибавил он мягче. — У нас все пополам, как в сказке: тебе вершки, мне корешки. Тебе лавры, триумфы, алтари, мне — труд и власть. Тут уж никому не уступлю. — Он стукнул ладонью по столу. — Пусть только посмеют объявить нас мятежниками, все равно будем сражаться!
— Если Сенат признает меня тираном, — глухо уронил Октавиан, — это конец!
— А коли так, — Агриппа вскочил, — отступая, разгромлю Рим! Камня на камне не оставлю! Тибр от трупов из берегов выйдет! Сам Бренн[43] с его ордами покажется ягненочком...
— Замолчи! — крикнул император, зажимая уши.
— Не бойся! — Агриппа порывисто обнял его. — Придет беда, я сам заколю тебя, прежде чем броситься на меч!
Уже лежа в постели, Октавиан сквозь ресницы разглядывал колеблющееся пламя светильника. Теплой волной нахлынуло блаженное безразличие. Агриппа у стола что-то чертил, вычислял, собирался сражаться до последнего вздоха... К чему, если поражение неизбежно? Октавиан закрыл глаза. Умирая, он в последний раз увидит небо Италии и глаза Марка Агриппы, может быть затуманенные слезой. А ведь они оба и четверти века не топтали землю.
IV
Узнав о распре между вождями, легионеры направили послов к брату Антония и сыну Цезаря. Просили их помириться, а если они не могут сами разобраться, кто прав, кто виноват, — пусть доверят свою тяжбу суду центурионов.