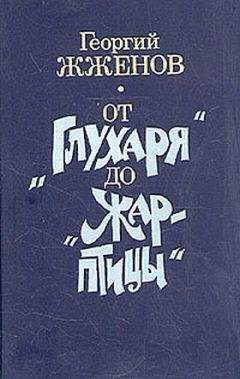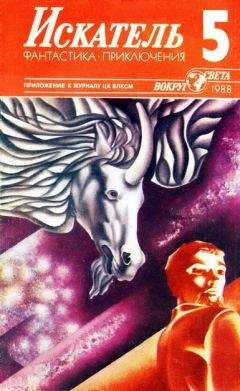Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
— Речь идёт, конечно, об Авиньонском пленении пап [191] и о том, что происходило в начале прошлого века, когда борьба за власть в Риме создала такое положение, когда разные города избирали своих пап, считая остальных за ложных пастырей [192], — ответил крикуну легат, — и мы готовы говорить об этом, хотя этот период истории Святого престола очень непрост и в нём немало неприятного для католиков. Но что бы там ни случилось, все эти неприятности не отменяют значения папства для христианского мира.
Степенно поднялся Фёдор Романов [193] — первый московский щёголь, предпочитавший польское платье, выписывающий книги из империи и Польши, прекрасный наездник, умеющий не только лишь изучать жития святых, но и радоваться жизни — обычной, мирской, плотской. Поклонился неторопливо царю — с достоинством, спросил разрешения говорить. Нахмурился Иван Васильевич, но разрешение дал. Не нравился ему этот гуляка, хоть и происходил из знатного рода и был сыном боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, немало сделавшего для державы Русской, который — вот он! — сидит тут же рядом с сыном. Опасался царь, что поддержит Фёдор папского легата. И в слове такому не откажешь: если даже таких слова лишать, то кому тогда говорить можно? Нет уж, пускай его… А Поссевино сверлит вставшего глазами, всё подмечая: и платье нерусское, и бороду, аккуратно стриженную, и какой-то особый лоск, которого прежде он у московитов не встречал. Да, кажется, это ещё один нечаянный союзник легата в борьбе за унию.
— Государь, послушал я, что говорят и православные, и латиняне. Да, единение против магометан — это хорошо. Но меня другое смущает. Некоторые католические державы бьются друг с другом, хотя вера у них общая. Почему тогда принятие унии непременно сделает мир с Речью Посполитой более крепким, чем сейчас? Для принятия мира не вера нужна, а доброе войско и Андрей Щелкалов. — Романов отыскал глазами дьяка и склонил в его сторону голову. — Да и вельможи европейские переходят из одной веры в другую не потому, что считают их истинными или ложными, а для того, чтобы сохранить жизнь, стать ближе к власти или к деньгам. Где же здесь истина? А в Русской державе вера православная принята шестьсот лет назад, и я совершенно не понимаю, ради чего нам надо её менять на католическое недоверие. Для того чтобы папа из Рима указывал нам, что делать и как Господа нашего славить? Да мы и сами без него всё знаем куда лучше. Поэтому я — против унии!
Нечасто, ой нечасто ошибался Антонио Поссевино в людях, с первого взгляда определяя, что за человек перед ним, чего от него ждать, а чего — нет. А тут вот ошибся, хотя и выделялся Фёдор Романов среди московитов какой-то особой вычурностью. Но печальные мысли так и остались в голове легата, а лицо его сохраняло обычное улыбчиводоброжелательное выражение.
— Не следует верить хуле, что возводят на католиков лютеране и кальвинисты, — ответил он, выслушав перевод Дреноцкого, — протестантам выгодно представить нас в глазах Ивана Васильевича и его подданных средоточием всех пороков. Но всё плохое — в прошлом, а сейчас католическая церковь выступает за единение, в отличие от протестантов, которые разделились на много частей и никак не могут договориться между собой в вопросах богословия. Мы признаём, что некоторые из пап не соответствовали своему высокому званию и предначертанию, но ведь и некоторые последователи русского крестителя Владимира тоже заблуждались и совершали ошибки, которые не отменяют для русских царей право на престол.
В Грановитой палате повисла тишина. Тяжёлая, гнетущая, тревожная. Кое-кто втянул голову в плечи, пытаясь стать менее заметным. Слова Поссевино были настолько чудовищными, настолько невозможными, что должна была последовать буря. Это надо же — пусть не прямо, а опосредованно, лёгким намёком, но всё же поставить под сомнение право русских царей на трон. Их, Рюриковичей, какой-то безбородый, как баба, латинянин обвинил в том, что они не по закону сидят на московском престоле!
Царь встал. Он был в ярости. Вслед за ним поднялись и остальные.
— Да твой папа, — закричал Иван Васильевич, — не пастырь, а волк! И ты, ты! Ты ещё будешь указывать нам, что делать!
Он задохнулся от бешенства, не в силах произнести больше ни слова, и, закашлявшись, опустился на трон. Тут же подбежали слуги, принесли в бокале приготовленного загодя сбитня, сваренного на травах для сердечного здоровья. Выпив, царь понемногу успокоился и стал дышать ровно. Все остальные продолжали стоять, оглядываясь: а ну кто первым опустится на лавку? Но таких не находилось. Царь между тем взял себя в руки:
— Садитесь. Беседа не закончена.
С шумным вздохом облегчения присутствующие сели. Остался стоять лишь Антонио Поссевино, который лишь теперь понял, какую ошибку он совершил. "Перши коты за плоты, перши коты за плоты", — крутилось в голове. В беседе с московитами надо быть предельно осторожным. Одно невинное по меркам Римской курии слово, и можно испортить всё. Да-а-а-а, московитам чужды изящные логические построения, и за ошибку можно заплатить самую высокую цену. Поссевино посмотрел на царя. Рядом с троном стоял слуга, опираясь на знаменитый царский посох. По слухам, именно этим посохом он и ударил своего сына. Легату показалось, что на его окованном железом наконечнике видны следы чего-то красного. Поссевино даже зажмурился, настолько видение было явным. Но нет, это ему, конечно, показалось. Легат, несмотря на вспышку царской ярости, сохранил присутствие духа и не показал, насколько он был напуган, считая смерть от необдуманного удара посохом не только неизбежной, но и скорой.
— Я знаю, милостивый царь, — спокойно сказал Поссевино, — что говорю с умным и доброжелательным человеком. И я отношусь к тебе с повиновением и преданностью, в чём ты и сам имел возможность убедиться, ведь я немало способствовал заключению столь нужного тебе мира. И папа, отправив с посольством меня, относится к тебе с отческой любовью, а мои слова — это слова Господа нашего, ведь я говорю то, о чём ты разрешил мне говорить.
Чтобы сгладить впечатление от своей вспышки гнева, Иван Васильевич перевёл разговор от веры к другим вещам. Он расспрашивал Поссевино о нравах при папском дворе, стараясь при этом выдержать доброжелательный тон. Зная от Шевригина об обычае католиков носить папу на носилках и целовать его туфлю, спросил у легата пояснения. Тот ответил, что на носилках папу носят лишь тогда, когда он благословляет толпы верующих, а на обуви понтифика изображён крест, и обычай целовать его имеет начало ещё в первом веке христианства, когда были живыми Христовы апостолы.
По молчаливому обоюдному согласию тему веры решили в этот день больше не затрагивать. Царь считал, что чем меньше разговоров о вере — тем скорее надоедливый латинянин поймёт, что делать ему в Москве больше нечего, а Поссевино полагал, что семя брошено, и должно в скором времени прорасти, и не надо торопить события. Он уже видел в Кремле и брата Гийома, и Ласло. И хотя переговорить с ними не удалось — это было бы слишком опасно, — однако он понимал, что его тайные посланники не сидят сложа руки и уже наверняка наметили тех, кому следует предстать перед Всевышним в самое ближайшее время.
"Было бы неплохо устранить этого Романова", — подумал легат и тут же поймал себя на мысли о том, что в нём говорит злость на себя, так сильно ошибившегося в оценке человека, казавшегося простым и понятным. Конечно же, устранение Фёдора Романова ничего не даст. Да, неглуп, но слишком молод для того, чтобы иметь большой вес при дворе. Да и сказал он уже всё, что мог сказать. А вот убрать митрополита Дионисия — значит сильно ослабить сторону противников унии. Наверняка коадъютор уже работает над этим. Брат Гийом говорил, что Ростовский архиепископ является его давним сторонником, — Поссевино запомнил первым высказавшегося за унию здоровяка Давида, которому более подходило бы имя Голиаф, таким он был высоким и крепким.