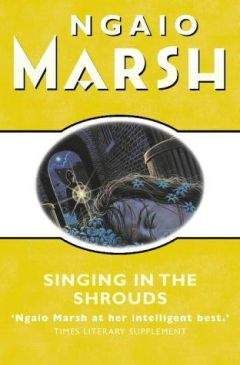Владислав Бахревский - Свадьбы
Пришла как-то домой Маша поздно, полы у казаков мыла, усталая, несчастная, и Фируза с ней ходила, помогала.
Подходит Маша к дому, а сердце у нее стук да стук! В доме темно, сонно. Смотрит, вместо щербатого порожка — крыльцо.
Фируза тоже удивляется. Щупает гладкое дерево, стружку нюхает. Сладко пахнет стружка.
Маша — в сени. Потихоньку, чтоб доска-скрипучка детей не разбудила. А доска не скрипит. Чьи-то руки поменяли старушку.
Сняла Маша башмаки, вошла в дом — сопят, да больно сладко и громко. Зажгла лучину, поглядела. И опустились у нее руки, и счастливые горькие слезы неудержимо хлынули по исхудалому лицу ее.
Прислонясь к печи, спал Иван, большой русский мужик, а вокруг него — ребятишки спали. Ваньша на руках, Нюра- нянюшка, старшулька, под правой рукой, как под крылом, а Пантелеймон чуть в стороне, но голову положил Ивану на колени.
Зашла в избу Фируза, поглядела на спящих, на Машу, подскочила к ней бесшумно, обняла горячо:
— Я на сеновал пойду спать.
И убежала.
Иван от света проснулся. Увидел Машу, сконфузился, а пошевелиться не может: как бы детишек не обеспокоить.
Взяла Маша Пантелеймона, перенесла па постель. Ребята на одной постели спали.
— Голову Нюре подержи, — попросил Иван.
Поднялся, отнес к Пантелеймону Ванюшу, а потом и Нюру перенес.
— Сказки мы друг другу сказывали, да и сморило нас.
Потоптался на пороге, голову опустивши, а потом поднял
глаза на Машу, а они у него от лучины-то засияли такой синевой, что и море не умеет таким-то быть.
— Не уходи, — сказала ему Маша.
Остался Иван в Машином доме хозяином. Случилось то в субботу, а в воскресенье пошли они в церковь к Николе-угоднику, и поп Варлаам скрепил их брачные узы святым венцом.
Глава пятая
Целый день Иван проторчал в кузне, своими руками сковал два наконечника для сохи.
Кузнец, искоса поглядывая на работу, все-таки спросил:
— Зачем это тебе?
— Нужно, — ответил Иван.
Кузпец хмыкнул, но вмешиваться в чужое дело не стал.
Еще через день у Ивана соха была готова, и он, выйдя из города, спустился с холма в облюбованную поймочку и, прежде чем приступить к работе, помолился.
Молитва была самодельная, но никогда он еще не верил так в бога, как теперь, перед первой бороздой. Даже бегая от крымцев и турок, так в бога не верил, потому что дело свое крестьянское почитал за самое святое на земле.
— Господи! — молился Иван. — Вот я уже и не татарская коняга, а хороший вольный человек. Всюду ты меня, господи, спасал от смерти, благослови же меня, землепашца, на мой труд, на вечную мою заботу, потому что, господи, хлеб я сею не для одного себя, но для того, чтоб кормились и старые, и малые, и птицы твои, господи, и всякая животина, полезная нам, людям, и угодная тебе!
Перекрестился Иван на все четыре стороны, запряг лошадь и, дрожа от радости, от нетерпения, от сбывшейся мечты своей, врезался сошкой в зеленую, никогда не паханную землю. Непривычный казачий конь прогнулся спиной, скакнул, борозда вильнула, но тотчас выпрямилась и пошла, пошла, черная, лохматая, с красными шевелящимися жилками дождевых червей, и запахло, как после дождя.
— Господи! — выдохнул Иван и попер. Улыбаясь. Тихонько, ласково ворча па лошадь, приученную к дракам, но не знавшую труда.
И вдруг — скок, гик, ругань!
— Остановись, сукин ты сын!
Смотрит Иван, к нему скачут, на него кричат. Свои — казаки с саблями.
Окружили Ивана, орут, волками кидаются, спасибо, Худоложка с ними.
— Ты сдурел? — спрашивают Ивана.
— Чего ж тут дурного? — изумился Иван, — Земля-то вон какая!.. Чужую, что ли, пашу? Так ведь ничья как быдто…
— Как быдто! — передразнил Худоложка, взмахом руки затыкая дружно взревевшие казачьи глотки. — Чего орете? Видите, без умысла человек согрешил. По неведенью.
— Да что же это я такого совершил? — рассвирепел Иван, выхватив из земли сошку и с яростью воткнув ее снова в землю.
— А в том твой грех, Иван, что землю пашешь. На Дону казакам пахать запрещено. Коли мы все пахать начнем, то и государеву и нашу казачью службу позабудем. Позабудем, Иван, что мы — вольные казаки. Будем такими же рабами, как вся рабская матушка Русь. Как начнут на Дону землю делить, так уж и не бывать вольному Дону. Понятно тебе аль нет?
Понятно, — сказал Иван.
Поклонился молча казакам, стал выпрягать лошадь. Выпряг, сел верхом и, не оглядываясь на первую свою борозду, на брошенную сошку, поехал прочь о поля. Часть казаков, хлопая дружески его по плечам, тоже поехала к Азову, но несколько человек задержалось. Проворно запалили костер
и, все еще ругаясь, ломали и жгли Иванову соху.
* * *Оплошность Ивана расшевелила азовских кумушек. Судили и так и сяк. Смеялись, жалели, хаяли, но и задумывались. На московских подачках не простое житье, а земли кругом — московским мужикам таких и не снилось. Хорошо бы иметь свой хлеб… Но ведь и другая правда — тоже правда. Как возьмутся землю казаки делить, так и передерутся. Кто боле земли захватит, тот и пан. Новопришелым деваться будет некуда, вся их воля: одно ярмо на другое поменять.
Может быть, долго еще судили бы да рядили, что лучше и как будет на Дону потом, но грянула новая напасть.
Под Азов с тридцатью тысячами войска явился хан Бегадыр. Явился нежданно, оттого и не набрал сто тысяч. Явился, как летний снег.
В Азове еще не успели оправиться от страшного поражения в устье реки Кубань, да еще Мишка Татаринов ушел на двадцати чайках жечь турецкие городишки.
На кругу глупости говорил:
— Казаки, мы татарам Азова не отдадим, а что вот делать, коли они возьмут его? Всего нас две тысячи! Силы-то нет.
— Как так нет! — взревел казак Осип Петров. — Две тысячи — не сила? Про то, сколько нас, не знают. И нужно не отсиживаться, а дать хану бой. Такой хвост накрутить, чтоб другой раз под Азов ему ходить неповадно было.
— Уж больно ты герой у нас! — осерчал Яковлев. — Может, ты и возьмешься хану хвост крутить?
— Возьмусь.
— Осип! Петров! Веди нас!
Слово, сказанное казаками на кругу, — закон. Атаманом остался Яковлев, а власть перешла к Осипу Петрову.
С неделю татары вертелись вокруг города, набираясь смелости, чтобы пойти на решительный приступ. У них было несколько пушек, но пушкари стреляли плохо, ядра падали в ров, тюкались в стены и только изредка залетали в город. Наконец Бегадыр Гирей приказал идти на приступ, и тут молчавшие казачьи пушки подняли такой неслыханный рев, с такой меткостью поражали наступающих, что татары отхлынули от города и собрались вокруг ханского шатра.
— Вот и славно! — твердил Яковлев, — Так, с божьей помощью, и отсидимся.
— Нет, — сказал Осип Петров, — теперь мы сами выйдем из ворот.
— Но зачем? — взмолился Яковлев.
— А затем, чтобы Азова не потерять. Подойдет Пиали-паша, совсем плохо будет.
И выпустил Осип Петров на тридцатитысячную армию тысячу запорожцев Дмитрия Гуни.
Татары, не выдержав первого натиска, подались, но хан Бегадыр, понимая, что казаки нацелены на его шатер, бросил в бой своих сейменов. Им приказано было остановить казаков и тотчас отойти к шатру.
Все так и вышло, сеймены приняли бой и дали время опомниться своему войску. Теперь мурзы и беи увидали, что казаков мало, какая-нибудь тысяча, что их можно окружить и уничтожить.
Началась неравная рубка.
Осип Петров глядел на битву со стены. Плохо пришлось запорожцам. Вот их потеснили, вот уже сбились они в колючий шар, уже не нападают, а отбиваются. Вот уже татарские беи, пуская в бой свежие отряды, стремятся рассечь крошечное запорожское войско надвое…
К Осипу пришел на стену старый запорожец великан Крошка.
— Что ты делаешь, наказной атаман? Зачем губишь запорожцев? Или избавиться от нас захотел?
Молчит Осип Петров, молчит, только лицом темнеет.
— Атаман, дай сигнал — отходить, пока не порубано войско.
Молчит Осип. Заплакал Крошка, старый воин.
— Атаман, богом тебя молю! Дай сигнал — отходить! А нет, так и мою сотню отпусти на погибель, коли запорожцы не любы на Дону.
Молчит Осип.
Схватился Крошка за саблю, но дюжие казаки, стоявшие рядом с наказным атаманом, сжали ему руки железными своими руками.
А под стенами Азова — кровавое пиршество. Все тридцать тысяч ринулись на запорожцев, чтобы не упустить своей доли, чтобы сабли свои кривые омочить в казачьей крови.
И тогда запели над Азовом трубы, но звали они не отходить, а наступать.
Из ворот мчались в битву отряды. Один, другой, третий, пятый, десятый, пятнадцатый. Загрохотали пушки.
Холостой был тот залп, но дрогнули татары, заметались, а на головы их — бешеные казачьи сабли. И тьма отрядов.