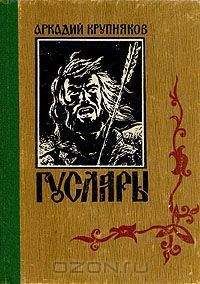Наталья Султан-Гирей - Рубикон
Освобожденные теснились вокруг императора. Каждый хотел поближе рассмотреть златоволосого мальчика. Мягкость Октавиана, его красота и молодость смягчали сердца недавних врагов. Они были готовы молиться на Дивное Дитя. Ведь сын Цезаря обещал землю всем беднякам!
Крупными шагами подошел Антоний, тучный, запыхавшийся.
— Наши войска наголову разбили...
— Скажи – легионы императора! — закричали солдаты Октавиана. — Ты и твои грабили обозы! Мешок! Мешок!
Антоний круто обернулся: — Сын Цезаря...
— Но ведь они правы, — насмешливо улыбнулся Октавиан. — Марк Агриппа смял лагерь Брута...
Император картинно поставил сапожок на повергнутого орла Республики. Заходящее солнце красиво освещало его боковыми лучами.
— Я рад, что ты настолько очухался от страха, что на ногах уже держишься, хотя еще и не соображаешь, что говоришь! — ответил Антоний.
— Страха? — Октавиан удивленно и грустно взглянул на него. — Это не то слово. Скажи — ужас, трепет, священное смятение. Пока на Филиппийской равнине бились легионы, в моей душе злые демоны Фессалии вели борьбу со светлыми божествами Италии.
Император вдохновенно закинул голову.
— Мое тело сковал сон, душа покинула его. Я был на Олимпе, видел отца моего Дивного Юлия, беседовал с Марсом Квирином, Громовержец Юпитер коснулся меня своим дыханием. И глаза мои, сомкнутые для света земли, видели иное. — Голос Октавиана окреп, приобрел металлически четкий темп. — Боги возвестили мне победу! Я был вознесен на Олимп и вернулся к вам...
Легионеры императора и освобожденные пленники рухнули на колени. Антоний и Агриппа, усмехнувшись, переглянулись...
Однако, милуя рядовых бойцов, триумвиры жестоко мстили убийцам Дивного Юлия. Заговорщики Варрон и Фавоний были обезглавлены по приказу Антония, как отцеубийцы.
На могиле своего юного брата Гая старший триумвир велел заколоть Гортензия, казнившего пленника по воле Брута. Но ленивый и вспыльчивый Марк Антоний не был способен к длительному гневу и затаенной ненависти. Расправившись с теми, кто попал ему под горячую руку, он многих простил. Спас свою жизнь и благородный Валерий Мессала.
Он добрался до Рима и припал к ногам Фульвии, сжимая в объятиях ларчик с казной. Его имя было вычеркнуто из списка обреченных.
Наиболее смелые из оптиматов бежали к Сексту Помпею.
Домиций Агенобарб и Стаций Мурк, организовав целые разбойничьи эскадры, грабили берега Италии. Они знали – пощады им все равно не дождаться.
Октавиан был неумолим. На второй день после битвы на холме, где недавно реяло знамя Кассия, воздвигли помост. Восседая на нем в кругу своих соратников, триумвиры принимали трофеи, а посреди поля вбили ярмо. К двум копьям, воткнутым остриями в землю, прибили поперек третье. В эту лазейку на корточках, согнувшись в три погибели, проползали вражьи командиры. На этом унижение не оканчивалось. Гордых патрициев связанными пригоняли к подножию помоста. Пленники сдержанно приветствовали Антония, как бывшего соратника, и осыпали площадной бранью низкорожденного змееныша. Император, казалось, не слышал оскорблений. Прикрыв густыми ресницами глаза, обведенные нездоровыми тенями, монотонно повторял:
— Казнить! Казнить!
Двое сенаторов, отец и сын, обнявшись, молили его даровать им жизнь. Сын молил за отца, отец умолял пощадить его дитя.
— Одному дарую жизнь, — насмешливо уронил Октавиан, — выбирайте сами, кому жить! Развяжите им руки, пусть тянут жребий...
— Я уже выбрал. — Юноша выхватил у конвоира секиру и перерубил себе горло. Несчастный старик, рыдая в конвульсиях, упал на труп. Когда его подняли, он был мертв.
Октавиан, весь порозовев, на минуту открыл глаза. Он собирался что–то сказать, но Агриппа тяжело опустил руку на его плечо.
— Хватит! — крикнул легат. — Остальные живите!
Император взглянул в лицо друга и боязливо съежился. Они вместе вернулись в палатку. Агриппа бросил наземь свой плащ и стал укладываться на ночь. Октавиан молча наблюдал, потом не выдержал:
— Гневаться изволишь? Жалеешь этих негодяев?
Агриппа спокойно повернул к нему голову:
— Я с радостью ушел бы совсем отсюда, но не хочу, чтобы все знали о нашей ссоре.
— А разве мы в ссоре? — Октавиан деланно хихикнул и тут же устыдился, отлично понимая, как неуместно это хихиканье.
Агриппа уже улегся и закутался в плащ с головой:
— Не разговаривай и не трогай! Убью!
Октавиан, свернувшись в комочек, промолчал. Он почуял: Агриппа взбешен не на шутку. Знал – в такие минуты дикого пицена трогать нельзя.
Он сполз с постели, взял подушку и молча положил рядом с разгневанным Марком Агриппой. Агриппа отшвырнул подушку.
— Сказал, не подходи. — Он тяжело дышал. — Вчера убит Гай Корнелий. А он мог стать мне другом! Настоящим другом!
— А я тебе не настоящий друг?
— Ты?! Я не люблю сквернословия, а то б сказал, кто ты! И не смей себя с Гаем Корнелием сравнивать! Он был воин! Он мог бы стать мне другом, с которым спина к спине сотню уложить можно! Никогда не предал бы, всегда удержал бы от недостойного. — Агриппа помолчал. — И ради тебя он убит! Может быть, я сам в пылу боя рубанул его. А как я хотел быть его другом, как завидовал паршивому мальчишке, его брату, и Гай Корнелий сам искал моей дружбы, а я все дичился, глуп был еще!
— Со мной ты не очень дичился, — вставил Октавиан. — Сразу власть забрал, уже в школе помыкать мной начал...
— Ну, это дело другое, — устало возразил Агриппа. — И еще раз прошу – не трогай меня, не разговаривай!
Он снова натянул плащ на голову, а рядом, одинокая, никому не нужная, белела подушка. Октавиан, подумав, поднял ее и, положив под голову, задремал. Под утро проснулся от легкого шороха
— Холодно на земле. — Агриппа виновато улыбнулся. — Давай мириться!
— Да мы и не ссорились.
— Нет, Кукла, ссорились, но все–таки давай мириться.
Октавиан тихонько вздохнул.
— Сперва скажи, за что ты так разозлился. Неужели тебе их жаль? Ведь пойми. — Октавиан сел и заговорил уже серьезно. — Недобитый враг опасней всего. Если б хватило сил, надо было и Антония под Мутиной прикончить, но там мы не смогли, а сейчас... Оставить в живых всю эту гниющую падаль? А они со мной лучше поступили бы?
— Давай мириться! Утречком поговорим!
— Нет. — Октавиан резко отстранил его. — Давай договорим все. Я вовсе не злодей, но понимаю некоторые вещи лучше тебя. Цезарь после битвы под Фарсалой простил весь цвет их армии. Даже Кнея Помпея-младшего отпустил с миром! Их благодарность за его милосердие тебе известна!
— Мне отвратительны не сами казни, а то, что ты упивался этой кровью, мог издеваться над безоружными...
— Они не твоего отца растерзали!
— Ну вот, опять спорим! Не надо, давай мириться!
VIII
Разбив мятежников и усмирив Элладу, три властителя мира решили встретиться в Афинах. Столица древней Аттики, светоч разума и солнце красоты, прекрасный город богини мудрости праздновал усмирение Греции римскими легионами.
В амфитеатре, чьи скамьи помнили меж зрителей Перикла, Алкивиада и Сократа, чью сцену, казалось, еще потрясала железная поступь Эсхила, где раздавался голос Софокла, полный глубокого сострадания к человеческому горю и жертвам Рока, где звенели монологи влюбленных цариц, читанные самим Еврипидом, на этой сцене ныне аттические актеры увеселяли победителей Эллады. Бессильные отстоять свободу родины в бою, эллины пытались пленить победителей гирляндами роз.
Триумвиры ждали Эмилия Лепида. Он должен был прибыть со дня на день. Тогда в откровенной беседе они наметят дальнейшие пути.
Октавиан избегал Антония. Целые дни он бродил по городу, восхищался сокровищами искусства и таскал за собой друга. На третий день Агриппа взмолился:
— Хватит с меня разломанных зданий и мертвых безруких, безногих богов!
— Я думал, ты любишь красоту, — огорченно заметил Октавиан. — Это же создания бессмертных скульпторов и живописцев!
— А мне не нравится!
— Но это общепризнанное. Все восхищаются!
— А мне не нравится, — упрямо повторил Агриппа. — Я люблю красивое, но живое. Посмотри на их лица: чурбаны! То ли дело наши уродцы! Каждый живет, смеется, плачет... а потом, ты пристаешь с греческими богами, а у меня римские солдаты в голове! Тебе одному надо иметь армию, равную войскам Антония и Лепида, вместе взятым.
Лепид наконец прибыл и привез сестру императора.
На играх и пирах Октавия, увенчанная розами, возлежала между братом и Антонием. Молчаливая и застенчивая, она смущалась от каждого обращенного к ней слова.
Антоний окружал ее вниманием. Его влекло простодушное очарование здоровья и нравственной чистоты. Октавия напоминала тихую полноводную реку. Бездомному гуляке было бы так сладко навсегда смыть в чистой и мощной глубине всю грязь, весь суетный прах жадной до наслаждений души! Пусть даже не навсегда, но хоть на миг погрузиться в теплые, ласковые струи большой прозрачной реки!