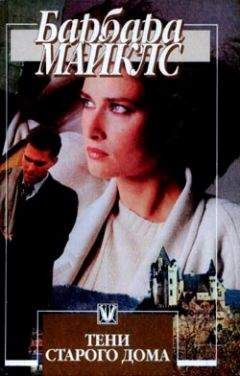Эфраим Баух - Ницше и нимфы
Особенно повышали для меня ценность окружающего ландшафта просматриваемые по прямой линии на юг, в морской дали, легендарные острова — осиянная величием родившегося на ней Наполеона Корсика, и — чуть поодаль — Сардиния. Я мог долго, не ощущая времени, смотреть на море, внутренне сближаться с ним, так, что в какой-то миг оно китом пророка Ионы поглощало мое одиночество. Я воочию ощущал, как огненный кит закатывающегося зимнего солнца пьет взахлеб это одиночество, облегчая тяжесть моей души, и волны, сшибаясь у самой его пасти, вздымают тучи брызг, шумно вливаясь в китовое брюхо.
Оранжевый свет уже закатившегося солнца приподымал огромное пространство, и отрешенно, словно забывая себя, высвечивал дома вдоль берега и лица людей в окнах, заворожено вглядывающиеся вдаль.
Может, и они, как я, пытались разглядеть туманный смысл своей жизни, и ничего не видели.
Недвижно стоял час мирового сиротства в одном ключе с моей душой, которую я ощущал подобной камням у берега, черным горбатым обугленным гномам. И только на грани засыпания, как солнечный свет на поверхности спокойного моря, которое сохранялось под веками после долгого в него вглядывания, возникало чувство радости, что через несколько часов — будь то сон или бессонница, я засяду за продолжение Книги. И я старался не давать ход дразнящим еще смутной приманкой мыслям, чтобы не потерять их во сне или вспугнуть бессонницей.
Первый вздох после просыпания был как первый вдох младенца, миг назад бывшего почти безжизненной плотью, но с бессознательным порывом в жизнь раскрывшего оба глаза.
Младенец вплывает в жизнь на весах Вселенной покачиванием — в колыбели, на руках матери, на весах бдения и сна, на вырастании между низиной моря и высотами гор.
Мою жизнь пестовало Средиземноморье и Альпы.
135Гуляя по набережной с множеством пальм, посещая узкие старинные улочки до базарной площади, останавливающей меня своим шумом и суетой шевелящихся муравьиной массой туристов, я все яснее пытался представить перед собой бродячего философа, отшельника и странника, подобного мне.
В древности он поразил своим учением Ассирию и Вавилон под именем Зороастра, но более известного, как Заратустра.
Я перебирал имена и других, но именно дух учения Заратустры снизошел на меня. Я говорю о нисхождении, ибо в последнее время — при долгом созерцании моря — на меня надвигалось внезапное видение поверх вод — быстро летящий по воздуху человек в сторону гор. Он осязаемо близко — не как тень или тающее по ходу облако, — пролетал мимо меня — но лица его не было видно. Дошло до того, что я с наступлением вечера, приходил на это место и замирал в ожидании.
На этот раз, увидев приближающуюся по воздуху фигуру, я вскрикнул от неожиданности, узнав в ней Лу, безмолвно пролетевшую мимо меня.
В последующие дни, сколько раз я не посещал это место, больше никто не появлялся в полете.
Это событие, испугавшее меня прорывом из глубин таящегося, как в любом человеке, — безумия, еще более поразило впервые в моей жизни выплеснувшейся из подсознания верой в это видение и почти наркотической тягой к фиксированному мной на часах времени появления летящих то ли привидений, то ли чего-то реального.
Словно боль и тоска моей души могла принимать какие-то реальные формы, вводя в состояние почти невменяемости, в которой прошлое возвращалось суррогатом, не менее мучительным, чем оригинал, и все же это было фиктивным возвращением того же самого.
Я успокаивал себя тем, что у меня уже есть опыт жизни в фиктивном мире, но на несколько дней был выбит из колеи, ничего не писал, только думал о Лу, перебирая наши длительные беседы и споры.
По сей миг потрясает меня, и еще не раз будет сбивать с ног ее изумительное, почти мгновенное схватываемое наитием, понимание полноты только начатой мной мысли. Такая все более растущая духовная близость намного сильнее близости физической.
Это, конечно же, в определенной степени, пугало меня доселе неизведанным чувством, но ее, вероятно, испугало намного сильнее.
Женщина, да еще такого склада, как Лу, может простить мужчине интрижку, увлечение, даже измену, гадкий характер, алкоголизм, носорожью напористость, но никогда не простит ему отдельную от нее внутреннюю жизнь, даже если он неосознанно, а, быть может, именно потому, отчуждает свою внутреннюю жизнь от нее. Она, гениально одаренная женской чувствительностью, да и чувственностью, ощущает опасность гораздо быстрее и чутче мужчины, и всегда опережает его разрывом отношений.
Ей кажется, что таким образом она спасает себя.
Я спасался бегством от самого себя, она же бежала от меня.
Именно, захваченный своим бегством, я был поражен и сражен внезапностью разрыва, уязвлен до той глубины души, где оживают и начинают шевелиться змеи самоубийства.
И только полное одиночество раскрыло мне свои спасительные ворота, через которые, виясь, то возникая, то пропадая, вела тропа к этой Книге, в ее спасительные дебри.
Само это еще не знакомое движение и звучание моей жизни, всплывшее из желания оторваться от привычного, столь зычного, объемлющего и углубляющего разрыв моего сердца — мира, гнало меня — спастись в горах, на каких-то пятачках земли, принимаемых мной за блаженные острова.
Однажды, вырванный из короткого сна шумом прибоя, я был поражен мыслью, что летевшая по воздуху фигура и была тем древним бродячим философом с Востока.
Мне ясно привиделись руины древней восточной стены, и еще более древнее, как перстень Персии, чудное и чуждое имя — Заратустра.
Так же, хотелось верить, что он, как и я, был запущен, подобно волчку, на Свет божий трагической насущностью Бытия, изнывающего от собственной горечи, боли и хронической духовной недостаточности.
Душой он был такой же, как я, странник и отшельник, по слухам, свободный умом и духом, как и я.
Имя это возникло передо мной в моем облике и оклике, на который я оборачивался, будь это слуховой галлюцинацией или откликом, когда я, вместо спасительного вздоха, произносил это имя.
Я писал Книгу как вновь ожившая и восставшая из пепла птица Феникс.
И в любой момент, стоило мне закрыть подслеповатые мои глаза, чтобы хотя бы немного дать им отдохнуть, передо мной возникал ее облик за миг до ее ухода.
Я затыкаю уши, и тут же, хранимый, как талисман боли, возникает стук ее удаляющихся каблучков.
Я смежаю веки, и тотчас за ними вновь возникает ее облик и перекресток нашего расставания, увековеченный мной в стихотворных строках, неизреченной драгоценной тайной хранящихся в самой сердцевине моей души.
Перекресток. Гул города. Деревце.
Угол дома, цоколь валунный.
Как бы сам от себя отделится
И живет в нас — тихий и лунный.
Перекресток. Лев каменный слева.
Фонарей затаенные тени —
Все хранится во мне, как слепок
Отошедших в сумрак мгновений.
Мы давно уже — врозь, и магия
Тех мгновений смешна нам, взрослым.
Но замру, и как вспышка мания,
Нас мгновенно сведет перекресток.
Книга эта все дольше и дальше уводит меня от перекрестка и, кажется, он уже совсем невидим за людскими толпами.
Только странно: чем больше ступают,
Из-под ног их, как из-под прели,
Все светлей и острей проступает
Тех мгновений горечь и прелесть,
Невозвратных, болезненно жалящих
Состояний, сияний, стояний,
Словно души стен окружающих
Глубже наших и постоянней.
Теперь мне все чаще удается сбежать от дроби каблучков, расстреливавшей меня в упор. Шаги мои, как у зверя, тихи и вкрадчивы и, кажется мне, ведут к новой надежде. Но покрыто ли пеплом забвения прошедшее, подстерегающее меня за случайным углом города Лейпцига?
Время от времени, слишком утягиваемый в сети по ловле слов, в которых вожделение к языку пожалуй, посильнее физического вожделения, а похоть к метафорам и ассонансам настойчивее похоти физической, я пытаюсь вырваться на легкую, давно протоптанную, дорогу. Но дорога это ловушка, в которой меня опять подстерегает дробный стук каблучков и перекресток.
И во спасение я убегаю назад — в раскрывающую мне объятия заумь языка, заново озвучиваемую разумом моего гения.
Я бежал за Книгой, а за мной гналась неотстающая боль разрыва.
И это была погоня, от которой несли меня быстрые и легкие кони моего детства.
Хотя эту Книгу я выходил по бесконечным, часто, незнакомым тропам, — выходил ее как дорогое дитя, гениальность которого обозначилась еще в период беременности ею.
Иногда находит на меня гнетущая печаль пророчества. Боясь нанести ущерб Лу, я писал в Книге: должен сказать вам всем, чтобы ваше сердце не ожесточилось против внезапно удаляющегося.