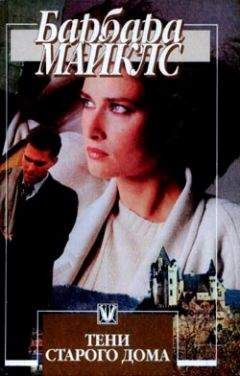Эфраим Баух - Ницше и нимфы
Природа всегда идет рука об руку с женщиной, чтобы укоротить рост Сверхчеловека до гнома. Ни один человек не является героем в глазах его слуги. Ни один философ или поэт не является космической силой в глазах своей любовницы, привыкшей к его наготе со шрамами, покрытой волосами, как обезьяна.
Поляк — так я определяю свою родословную, которую все — и близкие, как и враги, — из зависти, пытаются у меня отнять, — сын аристократа, называющий себя Ницше, ничем не отличается в глазах Калипсо от тупого крестьянина, выплевывающего табачную жвачку на собственную одежду и справляющего нужду в открытом поле. Между шелковыми простынями ее высокой кровати все мужчины равны — будь то Улисс, подобный разбитому сосуду, или Голем, который потерял всякую цель и стремления в своей жизни.
Я существую, значит, я мыслю
«Мышление расширяется, но хромает», — говорил Гёте.
Ибо кем я был в своих притязаниях к Лу, как не хромающий интеллектуал. Моя аристократическая философия, по сути, была маской, призванной прикрыть унижение, которое я чувствовал при мысли, что женщины могут водить меня за нос.
Я упал в яму абсолютного скепсиса, как Декарт, и потому ухватился за руку Лу, которая в возрасте двадцати лет сумела проанализировать и найти базисную ущербность в картезианском мышлении.
Декартово — «Я мыслю — значит, я существую» — то же самое, что запрягать телегу перед конем. Каждая женщина, познавшая жизнь, образующуюся в ее чреве, охваченная вожделением и страстью, жаждет забеременеть, даже если в случае с Лу, нет у нее сознательной страсти к ребенку.
«Я существую, значит, я мыслю» — вот, истинный факт существования, который евреи своей великой мудростью поняли, когда назвали своего возвышенного Бога — «Вот он Я».
Моя ученица превратилась в моего учителя — мой бог иронии одержал решительную победу.
Она внушила мне мысль о Заратустре.
Эта моя самая великая песнь празднует наш союз и предвещает наш трагический разрыв.
Все свои дни я повторял, что нет во мне горения, но сейчас верно то, что перед моими глазами высвечена Лу в пламени печи, в котором сгорает мое тело. Я любил ее тогда и люблю сейчас. Я горю, я горюю по потере любимой женщины, которая была нравственной по ту сторону морали, милосердной по ту сторону милосердия, и возвращала меня к себе самому, к моей цельности.
Я не нахожу для себя никакого ущерба в этой русской буре, в этом циклоне, который бушевал в ландшафте моей души, в лечащей ярости природы, разрушающей всё, но возрождающей во мне желание снова строить, когда я достаточно окрепну, чтобы убрать мои развалины.
Но смогу ли я когда-нибудь окрепнуть?
Я поклялся, что не «аз воздам за отмщение», сдержал и утихомирил чувство мести, демоническую ярость, которая вырвалась из-за факта, что по следам греков я строил свою жизнь на конечной грани — сбежал в ужасе, спасаясь и обороняясь, когда предстал перед бесконечной загадкой женщины. Перефразируя апостола Павла, хочу сказать: «Вот он я, но не я, а с Богом Спинозы, живущим во мне», Богом, видящим очами вечности все трагедии, где гнев и зло оборачиваются в любовь и добром в поколениях.
Понять, значит, простить.
Охваченный страстью, лишенной всяческой сдержанности, я кружился в Таутенбурге — к ужасу Элизабет и компании ее дружков-антисемитов, жадных до еврейской крови, но видящих в любви вне супружеских рамок грех против священного духа, которому нет прощения, ни в небе, ни в преисподней. Моим страшным грехом не была любовь к славянской Елене прекрасной — Лу, любовь до последнего дыхания, а пленение благословенной Гёте плоти, который превратил трепетную женскую наготу в столь духовное и умственное понятие, что ничего в нем не осталось от символа культуры Ренессанса — странника и его тени.
Мы сидели на этой скамье невозможного, пытаясь соединить два мира. Они ускользали друг от друга и отталкивались друг друга.
Я отдал душу Сатане во имя того, чтобы просветлели мои глаза после «покупки» мной высшей мудрости Сократа: я знаю, что ничего не знаю.
Я мог выбрать между распятием Иисуса и распятием моей возлюбленной ученицы, и выбрал ее, ибо сладостны мне были страдания агонии — страдания высшего счастья.
И что же я получил от того, что оставил ее во имя выкапывания гуманистических окопов моей философией Сверхчеловека, которую взяли на вооружение социалисты, чтобы протащить внутрь своей теории коллективного сверхчеловека, коммунистическое общество, — победу Хама, вознесенного человеческим стадом.
Именно, моя Лу открыла мне врата к женской тайне богини мудрости — Софии, то скрытое интуитивное знание, которое ученые-позитивисты не могут постичь. Они отрицают метафизику, и потому их кругозор ограничивает жизнь между глазами плоского лошадиного разума, отупляющего их сердца, как и ощущения, ум, чувства, силу знания и знание силы.
До того, как я вошел в ворота этого дома умалишенных, я наблюдал за его жизнью снаружи, в окна, словно был профессиональным психиатром, но с момента, как вступил в него, я сделался до ужаса рассудительным, пытающимся уравновесить мою мужскую самоуверенность с женским пониманием Лу, наблюдающей за всем тайным и исчезающим.
До того, как я познакомился с Лу, я не смог сбежать от статистической науки и количества во внутреннее убежище музыки вместе с Вагнером и его поклонниками. Но они были авантюристами типа Калиостро музыки, которые смешали полярность женского и мужского начала в культе варварской крови, возникшем как выражение антисемитского предприятия Трейчке и «арийских глупостей» мужа моей сестры Фёрстера.
Нет сомнения в том, что мы сейчас стоим на пороге нового периода сильнейших столкновений, которые приведут к новой духовной реальности, основанной на нуждах людей, а не на удовлетворяющих человека философах типа Гегеля. Они выдумали рационалистскую программу, согласно сердечной склонности пруссаков, превратив ее систему объемлющей весь мир последней истины. Они поставили существование перед мыслью, живое тело — перед мыслящим тростником — растоптанным тростником, в котором Паскаль определил душу — и — может, как старый скептик, я ошибаюсь — построят двадцатый век на крепкой основе нужды и необходимости.
За окнами дома умалишенных никаких изменений. Опять — рассвет. Давно я столь длительно не общался с Лу — и в бессоннице, и в дреме, и во сне.
Весы Вселенной
Дважды за манящими к себе извивами и изгибами волн этой моей Книги я спускался в Рапалло, к волнам нежного моря, ворочающегося на жестком каменистом дне.
Но завершить ее смог, поднявшись на альпийские высоты моего обетованного места — Сильс-Марии у Энгадина. Тихую бухту Рапалло прикрывали в ту зиму хребет Кьявари и мыс Портофино.
Мне было худо. Изводила холодная и дождливая зима в небольшой гостинице у самого моря, где ночами прибой, к сожалению, не укачивал, а лишал сна. Но — грех жаловаться: эта бессонница была невероятно благотворной. Меня не просто поднимало с постели, а бросало к столу, записывать нечто грандиозное, все более вырисовывающееся передо мной.
Кутаясь во все, что у меня было, и, все же, испытывая дрожь, скорее, не от холода, а от незаурядности мыслей, я начал писать «Заратустру».
Несмотря на то, что февральский холод у моря пронизывает меня до костей, я в течение десяти дней начавшегося тысяча восемьсот восемьдесят третьего завершаю первую часть Книги.
Тринадцатого февраля я подозрительно спокойно правлю рукопись. Ставлю последнюю точку. Печальная весть Иова приходит через день.
Можно сказать с достаточной долей достоверности, что в тот момент, когда я ставил точку, в Венеции скончался Рихард Вагнер.
Да простят мне боги, у меня на него был заготовлен полный колчан стрел. Все, написанное мной до сих пор, было лишь подступами к этой главной Книге. Она рождалась в лоне языка, мною не очень чтимого, но родного, обладающего, как я предощущал, неограниченными возможностями словесной игры, неисчерпаемой мощью завязывания плода. Думаю, беременность Книгой была длительной, сопровождаемой токсикозом на ранних стадиях, принимаемым мною за обычные симптомы почти постоянного моего недомогания, тошноты и обмороков. Но при этом и цепкость ее невозможно было прервать. Не имело значения, был ли я этому рад или не рад, ибо это было свыше моих сил.
От непреходящего волнения, я каждый раз щупал лоб: мне казалось, что у меня сильно подскочила температура.
Чтобы немного умерить мое нервное состояние, я выходил до обеда на короткую прогулку вверх по улице, мимо сосен, чтобы глядеть в морскую даль. Это успокаивало. Если я чувствовал себя в силах, то в послеобеденное время обходил всю бухту Рапалло от Санта-Маргариты до мест, за мысом Портофино.