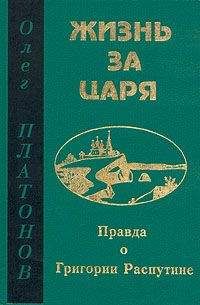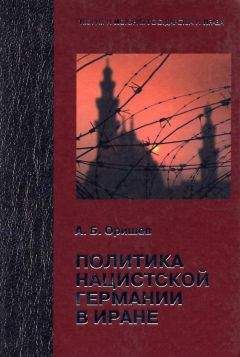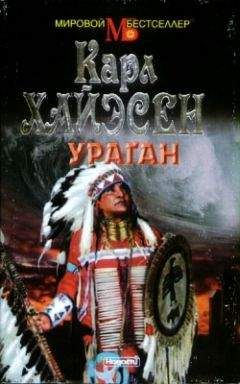Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
Но наследник всех этих нагроможденных в одно блистательнейших даров Фортуны, казалось, не проявлял ни малейшего интереса к своему будущему, весь поглощенный переживаниями, которыми потрясало его настоящее: сначала эта красиво играющая серебряная труба, потом гремящий и одновременно поющий голос стоящего посреди комнаты неизвестного человека… прелесть раскачивания в воздухе, высоко над полом, в руках отца… наконец, великолепные, самые настоящие золотые дома, окруженные деревьями, колоннами и неподвижными фигурками, большинство из которых — как Гауденций без труда узнавал — имело отцовское лицо.
Не только мальчик, все присутствующие с удивлением смотрели на занимающий три четверти комнаты, искусно сделанный весь из золота форум Траяна с Ульпиевой базиликой, библиотекой, конной статуей, колонной, аркой и изваяниями, из которых большинство — не так, как на самом деле — действительно изображали Аэция. Над базиликой возносился шестикрылый ангел, в руках которого развевался также золотой пергамент с надписью: «Гауденцию от дружественной ему Евдокии».
Подарок этот с трудом внесли в комнату двенадцать рабов под началом евнуха Гераклия. К нему обратился Аэций, все еще держа сына в руках:
— Гауденций горячо благодарит благороднейшую Евдокию за этот драгоценный и чудесный дар. Патриций империи также благодарит императора за это блистательное доказательство своего милостивейшего отношения к дружбе, которую питают друг к другу старшая дочь великого и мой сын. Поистине великолепный дар, поистине свадебный…
Все, не исключая Пелагии, посмотрели на него с удивлением. Один только Марцеллин давно уже обо всем догадался…
Когда спустились сумерки, в комнате не было уже никого, кроме отца и сына. Из углов начали выползать серые тени. Гауденций раскинулся в высоком креслице, ни на минуту не отрывая глаз от медленно тонущего в сумерках шестикрылого ангела. Взгляд Аэция последовал за взглядом сына. На миг он впился в надпись: «Гауденцию от дружественной ему Евдокии»… И вдруг патриций империи, всемогущий диктатор, гроза королей и народов, опустился на колени и, с жаром целуя маленькие ручки и ножки, дрожащим, взволнованным голосом, почти шепотом, стал говорить:
— Здравствуй и славься — ты, великий — государь наш, благороднейший цезарь император Флавий Гауденций Благочестивый, счастливый, прославленный, непобедимый, возвеличенный Август…
2Все ближе и ближе стучат широко распахиваемые двухстворчатые двери. Все ближе отдается эхом приветственный лязг оружия расставленной по всем комнатам стражи. Все отчетливее звучит из комнаты в комнату, из уст в уста передаваемое: «Ave, vir gloriosissime!..» Комес священной опочивальни, бледный, испуганный, бежит к двери: его бдительное ухо уже различило быстрый, упругий шаг… приближающийся, нарастающий…
— Славный муж, в это время?! — восклицает он трясущимися губами, героически распростерши руки. — Прости… не казни… отдали свой гнев… но я, право, не могу тебя впустить…
Без единого слова, резким, грубым рывком отдергивает Аэций от двери комеса, как будто это раб или последний из евнухов… И, не взглянув на него, тем же быстрым, упругим, решительным шагом направляется к большой, затканной золотом пурпурной завесе. Комес бежит за ним, заклинает, молит, падает на колени. Аэций, не говоря ни слова, идет дальше… откидывает завесу… Как из-под земли вырастает маленькая круглая фигура комеса священного одеяния… Маленькие, заплывшие жиром глазки полны слез…
— Не совершай, господин, кощунства… Император изволил снять с себя одежды… Никому не дано увидеть священную наготу…
Аэций, хотя весь кипит гневом, не может сдержать улыбку.
— Никому?.. Ты же вот каждый день видишь священную наготу, благородный муж.
На налитых, надутых, как будто вспухших щеках все еще сверкают слезы, но тонкие губы уже складываются в двусмысленную улыбку.
— Я другое дело… я кастрат… Мне и священную наготу императрицы можно зреть… и обоих вместе…
Но Аэций уже не слушает его.
— Пусти, — говорит он грубо и отталкивает евнуха от завесы.
Comes sacrae vestis снова улыбается.
— Государя императора нет в опочивальне.
— Лжешь.
Евнух понижает голос.
— Клянусь святыми бедрами императрицы, самыми красивыми, какие я видел…
Аэций смотрит на него с удивлением.
— Ты не боишься, что я пойду и скажу?.. Такое святотатство!..
— Не скажешь… Ведь это же от меня ежедневно узнает обо всем твой магистриан…
Широкая ладонь падает на заплывшее жиром плечо.
— Если с завтрашнего дня ты удвоишь свое старание, может быть, через год будешь препозитом священной опочивальни… вместо того… — говорит он шепотом, указывая головой на стоящего в соседней комнате комеса священной опочивальни… Ты его очень любишь? А? — смеется он и тут же добавляет совсем иным голосом: — Где Плацид?..
— В гимнасии…
Стоя на пороге гимнасия, Аэций с удивлением следит за тем, как Валентиниан сражается с высоким плечистым невольником-готом. Впервые он видит императора почти голым: Валентиниан от натуры щупл и плоховато сложен, но опытный глаз Аэция сразу видит, что у императора отлично натренированные мышцы рук и ног. Он очень ловок и хорошо владеет мечом. «Гот, конечно, слабовато наступает, — думает Аэций, — но и того, что есть, я никак от Валентиниана не ожидал…»
Наконец император увидел патриция. Беспредельное удивление и гнев появились в круглых, несколько выпуклых глазах, глубокие борозды мгновенно прорезали сводчатый Констанциев лоб. Он быстро закутывается в белую ткань и восклицает:
— Как ты посмел войти, святотатец?!
Аэций на языке готов говорит невольнику:
— Ступай и забудь то, что ты слышал, если хочешь жить, — а оставшись наедине с императором, быстро подходит к нему и, почти касаясь грудью его груди, цедит: — Тебе не придется упражняться с этим готом… Он или умрет, или станет моим преданным псом… Он слышал, как ты оскорбил Аэция…
— А ты не оскорбил императора?.. Не нарушил церемониала?.. Как ты мог войти сюда незваным, в такое время?.. Если умрет гот, я велю казнить всех моих прислужников с обоими комесами… Они видели, как ты оскорбил императора!
«Очень похож на мать», — думает Аэций.
— Казни, если хочешь… — говорит он. — Я-то знаю, что не сможешь… А ты знай, что мне ни к чему публично оскорблять величие, и я бы наверняка не пришел сегодня, если бы не узнал, что… — Лицо его вдруг побагровело от несдерживаемого гнева, искривилось злой гримасой, голос стал тихим и свистящим, — …что ты принял представителей торговцев и заверил их, что новый воинский налог не коснется торгового сословия…
С трудом исторгал он из себя каждое слово. Валентиниан же, хотя и побледнел, разглядывал его спокойно и холодно, а когда Аэций наконец замолк, ответил:
— Да, я так сказал… С нашествия Алариха торговцы все еще так разорены, что грешно было бы отнимать у них хоть один нумм…
— Насчет греха толкуй с Леоном или со своей матерью, — гневно фыркнул патриций, — а со мной говори о войске и деньгах. Ты император, значит, надо бы хоть время от времени интересоваться своей империей. Так вот, говорю тебе: если к зиме у меня не будет денег на формирование шестнадцати новых легионов и на выплату вот уже полгода задерживаемого жалованья галльским ауксилариям, — к весне ты не будешь государем Галлии, а может, и Испании, так же, как ты уже не хозяин Африки… Для войны не только с Теодорихом, но даже с франками или свевами у нас нет сил… И их не будет, пока мы не достанем денег…
— Мы достанем денег, Аэций…
— Откуда?.. Феодосии Великий закопал где-нибудь в подземельях Палатина Соломоновы сокровища?..
— Вот ты смеешься, Аэций, а Соломоновы сокровища действительно существуют. Только не в подземелье, а в лесах, полях, виноградниках, прекрасных виллах, инсулах, памятниках, картинах и квадригах, выигрывающих на гипподроме состязания… Мы введем налог на все сенаторские роды, на каждый югер пахотной земли, луга, леса…
Аэций нахмурил брови.
— Я не сделаю этого.
— Почему же, Аэций?.. Да выставь ты восемьдесят легионов, и то не уменьшишь богатства италийских посессоров даже на треть…
— Нет, этого делать нельзя. Я не могу обременять одно сословие такой податью.
— Не можешь? — Валентиниан рассмеялся. Смеясь, он еще больше походил на мать. — Почему бы это, сиятельный?.. Ведь ни одно же сословие не кричит столько о своей преданности Риму и готовности к любым жертвам ради него… Разве не справедливо было бы — как это бывало в древности, — чтобы те, кто имеет больше всех привилегий, брали бы на себя и большие тяготы?..
— Так и будет… Сенаторское сословие заплатит куда больше, чем торговцы, но торговцы тоже заплатят…
— Нет, Аэций… Если император заверил их, что…