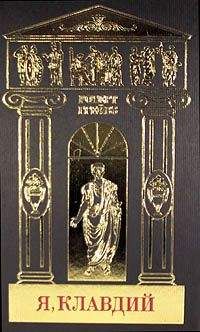Андрэ Шварц-Барт - Последний из праведников
— Назови что-нибудь совсем недоступное, чего я не могу тебе дать…
Сначала она отвечала ему поцелуями, а узнав его странный характер, просила что-нибудь такое, что ей представлялось почти недоступным: что-нибудь из парфюмерии или из фруктов, или больше сахару, чем полагалось по норме.
Эрни приходил в отчаяние от такого отсутствия воображения, он усматривал в этом серую забитость; бедняков. А иногда ему виделась в этом благоразумная расчетливость, вызванная страданиями. Так объяснял он, почему Голда безропотно принимает несчастия ближних и свои собственные. Не вдаваясь в размышления, он называл ее “Простушкой”, но однажды после долгого разговора на эту тему, когда она утверждала, что нужно покоряться воле Бога, а он с ней не соглашался, Эрни задумчиво сказал:
— Все дело в том, что я даже не начал еще постигать, в чем суть страданий, а ты все знаешь лучше самого раввина.
Она растерянно на него посмотрела. В другой раз, когда на улице Паве он попросил ее назвать “желание”, она вдруг “пожелала” пройтись вдвоем по Парижу без звезд. Они гуляли весь день. Это и было ее единственным “несбыточным желанием”.
Они предприняли эту прогулку в одно из августовских воскресений. На всей их поношенной верхней одежде с левой стороны были нашиты звезды. Поэтому Голда предложила просто выйти без курток. Погода стояла такая чудесная, какой больше уже никогда не будет в жизни этих двоих детей. Эрни с Голдой дошли до берега Сены и под темным сводом моста сняли с себя куртки со звездами. Голда засунула их в хозяйственную сумку и поспешно прикрыла бумагой. Потом, взявшись за руки, они пошли вдоль Сены до Нового моста. Там они поднялись по каменным ступенькам наверх и, испытывая такую тревогу, что дух захватывало, вышли в христианский мир.
В то время ноги у Эрни совсем уже окрепли, и к нему вернулась красивая походка, какой он отличался в детстве. Тщательно причесанные Голдой ...ные кудри скрывали шрамы на лбу. В белой сверкающей на солнце рубашке, стройный, как молодой кедр, он выглядел, как всякий юноша, у которого вся, жизнь впереди. Будто на приспущенном поводке ...жал он всей пятерней рыжую козочку, припрыгивающую рядом с ним, на долю которой, казалось, тоже выпала долгая жизнь. Голда словно танцевала; она принарядилась, как деревенская девушка. Еще мокрые от речной воды волосы стянуты в узел, тонкий слой помады на губах, к которым она то и дело с удивлением подносила палец, белая накрахмаленная блузка, доставшаяся ей две недели тому назад; о такой блузке, как у настоящей “барышни”, она давно мечтала и теперь гладила ее только сама, никому не доверяя, осторожно проводя по ней легким утюгом, нагретым, как говорил господин Энгельбаум, собственным сердцем.
Охваченные страхом и радостью, не смея взглянуть друг на друга, шли они рядом, каждый ощущая присутствие другого, как две птицы, интуитивно летящие вместе. Иногда, забывая о своем обещании. Эрни приближался к Голде, и та призывала его к порядку, молча пожимая ему руку. На площади Сен-Мишель они долго стояли перед кинотеатром.
— Я еще никогда не была в кино, — вдруг прервала молчание Голда. — А ты?
— И я никогда не был. — с удивлением ответил Эрни. — Давай зайдем разок, на нас же нет звезд. Не могу себе представить, что там такое. Смотри, вот у меня есть четыре, пять… семь франков.
— Нет, это ужасно дорого, — возразила Голда. — и вообще я предпочитаю быть на улице и смотреть на настоящую жизнь.
Она по-хозяйски обвела вокруг себя рукой. Велев ей никуда не отходить, Эрни вскоре вернулся с двумя порциями мороженого. Она выбрала зеленое и, вытянув шею, чтобы случайно не капнуть на блузку, впилась в него зубами, задохнулась, подавилась и выплюнула восхитительную сладость. Потом она посмотрела на Эрни и, переняв его опыт, стала лизать вафлю языком. Он подумал, что, кушая мороженое, она как будто смакует самое себя; она всегда смаковала самое себя, что бы ни делала, что бы ни говорила, даже когда бросала жадные взгляды на павильоны, украсившие в честь праздника бульвар Сен-Мишель, даже когда смотрела на Эрни. Эрни же чувствовал, что он с головой уходит в мечту и в нем не остается ни капли ненависти к самому себе. Покончив с мороженым, они отправились дальше и по бульвару Сен-Мишель дошли до площади Данфер, где стоит лев, такой же строгий и величественный, как лев Иехуды, который охраняет Скинию Завета. Потом им понравилась какая-то прелестная улочка, и они по ней вышли на проспект Мэн, А там оказался еще более прелестный скверик — настоящий оазис, со всех сторон окруженный домами, которые крепко уснули на солнце, прикрыв окна шторами. Молодые люди долго выбирали скамейку, наконец выбрали. Голда сунула под нее сумку, и они уселись как обычные парижские влюбленные, уставившись невидящим взглядом на детей, на нянек, на старух, которые тоже блаженствовали в сквере Мутон-Дюверне.
— Подумать только, что тысячи людей здесь сидели до нас! Даже не верится… — сказал Эрни.
— Вот, послушай, — сказала Голда. — Что это такое? Существовало еще до Адама. Только меняло два цвета своих покровов: само же ничуть не изменилось, хотя прошли тысячелетия. Что это такое?
— У моего отца на каждый случай были притчи, а у твоего — загадки, — сказал Эрни.
— Это время, — задумчиво сказала Голда, — а два цвета — это день и ночь.
Их сблизила одна и та же мысль, а время мчалось с коварной быстротой и неожиданно скрепило их счастье печатью первой звезды.
— Не могу понять, почему они запрещают нам заходить в скверы, — прошептала Голда. — Ведь это природа-Высоко в небе над Парижем проплывало розовое шелковистое облако: вот оно миновало многоэтажный дом на другой стороне проспекта Мэн: Эрни провожал его взглядом до самой Польши, туда, где под тем же августовским небом умирал еврейский народ.
— Послушай, Эрни, — сказала Голда, — ты же знаешь христиан, скажи, за что они нас так ненавидят? С виду они такие добрые, если смотреть на них без звезды.
Эрни обнял Голду за плечи.
— Этого понять нельзя, — процентах он на идиш. — Они и сами точно не знают. Я бывал в их церкви, читал их евангелие… Знаешь, кто такой был Христос? Простой еврей, как твой отец: что-то вроде хасида.
— Ты шутишь, — мягко улыбнулась Голда.
— Нет, нет, честное слово; я даже уверен, что они с твоим отцом нашли бы общий язык; потому что Христос действительно был хороший еврей, знаешь, немножко, как Баал-Шем-Тов: милосердный, кроткий. Христиане говорят, что любят его, а по-моему, сами того не подозревая, они его просто ненавидят; потому-то они и берутся за крест с другого конца и превращают его в меч и разят нас этим мечом. Понимаешь, Голда, — вдруг закричал он, страшно взволнованный, — они берут крест и поворачивают его другим концом, другим концом…
— Тише, тише, — остановила его Голда, — нас услышат. — Она провела рукой по его шрамам на лбу, как делала обычно, и улыбнулась. — Ты же мне обещал сегодня не думать.
Эрни поцеловал ее руку и упрямо продолжал:
— Бедный Иешуа, если бы он вернулся на землю и увидел, что язычники сделали из него меч и разят им его же братьев и сестер, он бы так опечалился, так безгранично опечалился… А может, он все это и видит: ведь, говорят, некоторые Праведники остаются у врат рая, потому что не хотят забывать людей; они тоже ждут Мессию. Кто знает, может, и видит… Понимаешь, Голделе, он хороший еврей, такой же простой, как мы, обыкновенный Праведник, как все наши Праведники, ни больше, ни меньше… Наверняка твой отец нашел бы с ним общий язык. Я так и вижу их вместе. “Ну, что ты на это скажешь, мой добрый рабби, — сказал бы твой отец, — прямо сердце разрывается смотреть на все, что творится”. А тот взялся бы за бороду и ответил: “Но ты же знаешь, мой добрый Шмуэль, что еврейское сердце должно разрываться, разрываться и разрываться во благо всех народов. На то мы и избраны. Разве ты этого не знаешь?” А твой отец сказал бы: “Ой-ой-ой, еще как знаю! К сожалению, достопочтенный рабби, только это я и знаю…”
Оба рассмеялись. Голда достала из сумки гармонику, повертела ее у Эрни перед носом и начала играть непозволенную мелодию: старинную песню надежды — Хатиква. Тревожно поглядывая на бульвар Мутон-Дюверне, она вкушала удовольствие, как от запретного плода. Эрни наклонился, вырвал пучок пожелтевшей травы и посыпал ею еще влажные волосы Голды. Когда они поднялись уходить, он хотел стряхнуть этот жалкий венок, но девушка удержала его руку.
— Пусть люди смотрят; тем хуже для них. И для немцев тоже. Сегодня я всем говорю: “тем хуже”. Всем, — повторила она, вдруг став серьезной.
— Эрни, Эрни, — нежно сказала девушка, ты же знаешь, что нас ждет смерть.
Прямая, как струнка, она сидела на кровати, покрытой серым одеялом, в комнате на шестом этаже, молитвенно сложив на коленях дрожащие руки. Шерстяная красная куртка, никак не гармонировавшая с мрачной комнатой земиоцких стариков, была застегнута на разные пуговицы до самого верха, так что виднелся лишь белый воротничок до блеска н# крахмаленной блузки. Несколько травинок запутались в ее уже высохших волосах, золото которых сумерки превратили в осеннюю рыжику.