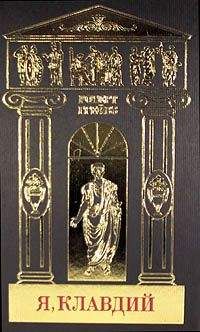Андрэ Шварц-Барт - Последний из праведников
— Вы не очень устали? — чуть резковато перебил ее Эрни.
— Нет, а почему вы спрашиваете? Ах. вы беспокоитесь о моей ноге? — сказала она самым непринужденным тоном.
— Да, — не сразу ответил Эрни, — я беспокоюсь о вашей ноге.
— Ерунда, о ней не стоит беспокоиться. На вид она не очень-то, но когда доходит до дела, так она еще крепче здоровой. Ну, подруга, — шутливо обратилась она к больной ноге и, наклонившись, похлопала по ней, — один раз ты уже сломалась — и хватит.
— Вы далеко живете? — поспешно спросил Эрни, словно стараясь перевести разговор на другую тему.
Девушка распрямилась.
— Нет, в двух шагах отсюда, — улыбнулась она.
— Все же возьмите меня под руку, пожалуйста, ладно?
Девушка вдруг покраснела и, не сказав ни слова, испуганно взяла его под руку. Молодые люди вышли по улице Жоффруа-Лание к Сене и отправились вдоль берега под удивленными взглядами прохожих. Хотя странная девушка и взяла Эрни под руку, она старалась не опираться на него, так что их руки соприкасались, только когда она ставила на землю больную ногу…
— Знаете, она у вас совсем немножко короче другой, — простодушно сказал Эрни самым обыденным тоном.
Но не успел он произнести эти слова, — как раздался звонкий смех, и, убрав свою руку, девушка "прошла несколько шагов самостоятельно, подчеркнуто хромая и хитро поглядывая на Эрни, словно приглашая его убедиться в обратном.
— Ну, как? Совсем немножко? — сказала она весело.
Эрни подошел к ней и на сей раз без спроса взял ее под руку так, что ей пришлось на него опереться. Будто испугавшись, она молча и покорно зашагала рядом с ним, почти не хромая. Вдруг они оба расхохотались и так же неожиданно вместе замолчали; потом снова рассмеялись, смущенные и обрадованные таким единодушием.
— Ну, а теперь? Все еще чувствуете, что она короче? — задумчиво спросил Эрни.
— Нет, теперь не чувствую, — так же задумчиво ответила девушка.
На набережной кружился белый пух, облетавший с платанов. Десятью метрами ниже Сена катила свои воды, сдавленные городом. Мимо молодых людей проехало случайное такси, увозя с собой отражение мотоциклиста с высунутым языком и толстой дамы с муфтой, которая восседала в его коляске и, видимо, наслаждалась парижской весной. Несколько солдат Вермахта тоже прогуливались по набережной, и Голда (так звали девушку) сказала Эрни, что, поддерживая ее обеими руками, он прикрывает свою звезду, а это опасно. Потом она стала выдумывать разные истории, в частности, что у нее теперь второй муж и что она решила уйти от него, как только подвернется новый претендент на ее руку. Эрни слушал эту болтовню, не вникая в ее смысл, и думал лишь о том, как легко и свободно ему дышится, в полную грудь.
— Ну, вот, — говорила она через каждые пять минут, — здесь уже можете меня оставить, не стоит вам затрудняться.
Но и эти слова не производили на Эрни никакого впечатления. Он их воспринимал как часть того удовольствия, которое он испытывал в присутствии Голды от всего вокруг. Все преображалось в ее присутствии: дома начинали плясать в теплом воздухе. Сена журчала, как деревенский ручеек, парижский гул становился гармоничным… И когда Голда роняла эти пустые слова, Эрни лишь легонько приподнимал ее от земли, словно хотел сделать их еще воз-душнее.
Когда они ушли с набережной, Голда повела его в один из многочисленных тупиков среди прогнивших домов, неподалеку от Сены, за площадью Бастилии. На его просьбу о новой встрече она ответила шуткой и в шутку же спросила, в какие часы он работает. Мысль о том, что ее “спаситель”, как она его шутливо называла, будет ждать ее завтра в таком-то месте, в такой-то час, явно забавляла девушку. Однако перед узкой толевой дверью, небрежно протягивая на прощанье руку, она тихонько спросила:
— Вы действительно придете, господин Эрни?
— Разумеется, — спокойно ответил он, — не пошлю же я вместо себя свою тень.
— А почему вы придете?
— Простите, я вас не понял.
— Я спросила, почему вы придете. — повторила она очень серьезно.
— Потому что хочу вас видеть, — спокойно сказал Эрни с оттенком упрека в голосе.
И тут удивительно ясно выступило второе лицо Голды. Лицо такой красоты, озаренное такой наивной радостью, что Эрни невольно закрыл глаза. Когда он их снова открыл, девушка уже уходила, припрыгивая, как птица. Она вошла в парадную, потом высунула оттуда нос, тут же спряталась снова, и из-за дверей послышался умоляющий голос:
— Можно, я все расскажу папе?
— Да, да, — сказал Эрни.
Не слыша ничего больше, он ушел не оглядываясь, но в конце тупика, уверенный, что она смотрит ему вслед, он почувствовал, что опьянел от ощущения, которое он никак не мог определить. Однако, поскольку он плакал посреди улицы, то решил, что испытывает бесконечно нежную жалость, которая почему-то переходит в радость, и эта не то жалость, не то радость такая легкая, что она уносит его, как на крыльях.
В детстве Голда не хромала… Когда в 1938 году после отмены паспортов для польских евреев-эмигрантов новое “австрийское” правительство выслало их к границам Польши, среди них была выслана и семья Энгельбаум. История эта обошла прессу всего мира: вечером евреев выслали в Чехословакию, на следующее утро их оттуда отправили в Венгрию, из Венгрии — в Германию и снова в Чехословакию. Так они кружили до тех пор, пока, наконец, не удалось нанять старые лодки, курсирующие по Дунаю. Они вышли на них в Черное море, где большинство евреев утонуло. К какой бы земле они ни причаливали, их отовсюду высылали. На Дунае Голду чуть не сбросили с парохода, в последнюю минуту она удержалась, только сломала ногу. Ей наложили шины. Чтобы заглушить боль, она пела. В конце кругосветного плавания некоторым уцелевшим изгнанникам удалось найти пристанище на итальянской земле, а другим — нелегально перебраться во Францию. Мужчины несли Голду на спине. Сломанная нога перестала расти — вот и все. Но Голда начала на себя смотреть другими глазами. Не то чтобы в ней появилась горечь, но во всем теперь чувствовался легкий налет отчужденности: в ее по-прежнему улыбчивом лице, в беззаботных манерах, в жизнелюбивом характере; все теперь было проникнуто неуловимой сдержанностью, в результате чего ее утраченная миловидность превратилась в красоту.
Иногда, правда, на нее нападала жадность: то она объедалась фруктами до резей в животе, то упивалась меланхолическими звуками гармоники, которая под ее руками издавала бессознательные любовные призывы. В любую мелочь она вкладывала всю душу: сморщенное яблоко грызла с таким усилием, словно это была сама земля, которая крошилась у нее под зубами, прозрачную воду пила долго и, видимо, не от жажды, а в каком-то задумчивом исступлении. Мать приходила в ужас от этих странностей. Голда же успокаивалась после каждого такого “приступа”, не испытывая ни сожаления, ни горечи, словно утоляла свои желания у самых пьянящих источников жизни.
— Несерьезная ты какая-то, — говорила ей мать, — будешь так себя вести — никогда не выйдешь замуж.
— А если буду вести себя иначе, думаешь… Кому я нужна с такой ногой? — смеялась Голда.
Мать, женщина угловатая не только на вид, но и по характеру (вероятно, жизнь ее такой сделала), грубо возражала:
— Чтоб я сдохла, если я что-нибудь понимаю в! этой девчонке! Да будь ты уродиной из уродин, жабой из жаб, все равно если ты захочешь, то найдешь человека, который тебя прокормит! Зачем, ты думаешь, я тебя растила? Чтобы ты так и зачахла? Посмотри на меня! Нашла же я твоего отца!
Если при этом присутствовал господин Энгельбаум, он воздевал руки.
— Ты меня нашла, я тебя нашел, мы оба нашли; друг друга… Упаси тебя Бог, доченька, от таких находок, — печально говорил он в бороду. — Иди лучше сюда, детка, скажи мне, какого мужа ты хочешь. Эти разговоры ничуть не задевали Голду, она принимала в них участие только из почтения к родителям.
— Вот ты и есть мой муж, правда, — говорила она отцу и, глядя на мать со снисходительной усмешкой, добавляла: — А ты — моя жена, моя чудная жена. Чего же мне еще хотеть!
Мадам Энгельбаум приходила в ярость от этих слов, а Голда их часто повторяла, словно хотела подчеркнуть свою отрешенность от женского начала и убедить родителей, что, “выйдя замуж” за них обоих, она вдвойне с ними счастлива. Голда не рисовала себе-будущего, думая больше о том, как найти удовлетворение (в каком-то смысле более полное, богатое и невыразимое) в настоящем и в пределах ее мира. Эти “приступы”, как она говорила, голода, жажды, желаний распространялись только на доступные ей вещи. Когда в буфете бывало пусто, она прекрасно утоляла “приступ” голода сухим хлебом. Позднее, когда они с Эрни сошлись поближе, он иногда спрашивал, чего бы она хотела.
— Назови что-нибудь совсем недоступное, чего я не могу тебе дать…