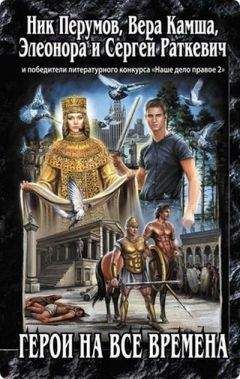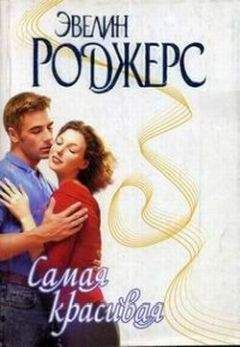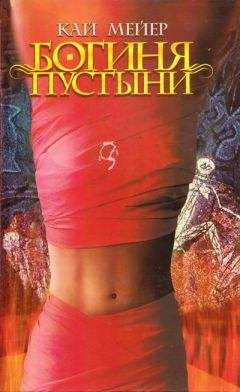Луи Мари Энн Куперус - Ксеркс
Тем временем Клеопис вопила, не переставая, и по склону уже торопился народ: рыбаки из причалившего внизу яла, рабы, направлявшиеся с тюками в гавань. Дюжина людей со всех сторон приближалась к месту происшествия. Незнакомый моряк так и не произнёс ни одного слова. Гермиона обратилась к нему:
— Спаситель, назови своё имя! И будь вовеки благословен!
Рыбаки были уже (Совсем рядом. Моряк строго поглядел в глаза Гермионы:
— У меня нет имени! И ты ничего не должна мне!
Он бросился бежать вверх по склону широкими прыжками. Клеопис немедленно умолкла, бросившись к Гермионе, побелевшей как полотно. Демарат неловко поднялся на ноги. Полученные пинки — безусловно, заслуженные — привели его в разум. Он что-то сказал рыбакам о моряке, попытавшемся напасть на Гермиону, и о том, как сам он мужественно избавил её от приставаний негодяя, но споткнулся и не успел задержать его. Повесть сия отнюдь не выглядела безупречной, однако желающих проверить её не нашлось. Несколько человек бросились было вверх по склону, но моряка уже не было видно. Гермиона по-прежнему молчала. Сделав из вёсел и парусины носилки рыбаки понесли её к матери, Демарат же постарался как следует умаслить Клеопис, чтобы та не наговорила чего-нибудь лишнего Лизистре. Гермиона молчала до самого дома. Там, оказавшись в своей комнате, она наконец произнесла:
— Это был Главкон! Я видела сегодня Главкона!
— Это был сон, филотатэ, — заверила её Лизистра, поправляя подушку. — Полежи и отдохни.
Однако, тряхнув волосами, Гермиона повторила:
— Это был не сон. Нет, не сон. Главкон был рядом со мной. Он говорил со мной и смотрел на меня, и я сразу узнала его. Он жив. Он спас меня. Но почему он не возвращается домой?
Лизистра расстроилась. Она немедленно послала за лучшими в городе врачами и отрядила раба в храм Асклепия, находившийся в недалёком Эпидавре, чтобы тот принёс в жертву богу-целителю двух петушков за выздоровление дочери. Знахарка, пользовавшаяся авторитетом среди рабов, посоветовала приложить к голове Гермионы щенка, чтобы тот оттянул на себя горячечные токи. Спустя несколько дней Гермиона оправилась от потрясения, силы вернулись к ней, и молодая женщина потянулась к собственному ребёнку. Сидя у кроватки Феникса, она то и дело повторяла:
— Твой папа жив, я видела его, сынок! Он жив!
Однако более всего озадачило Лизистру то, что Клеопис ни в чём не противоречила своей молодой госпоже и помалкивала о том, что же произошло на склоне.
Глава 4
В ночь после происшествия на склоне Демарат принимал в своих покоях самого Хирама. Усердный финикиец провёл в Трезене несколько дней, посвятив их делам, о которых знали лишь сам он и его господин. Оратор перебинтовал лоб, чтобы скрыть синяк, оставленный увесистой сандалией Главкона. Бледный Демарат сидел в кресле, обложившись подушками. Он явно ожидал своего гостя, о чём свидетельствовала краткость неизбежных приветствий.
— Ну, драгоценный мой, ты отыскал его?
— Да изволит высочайший выслушать ничтожнейшего из своих рабов…
— Ты слышал меня, лис… Ты нашёл его?
— Пусть это решит сам господин мой.
— Чтоб тебя Кербер сожрал, приятель, впрочем, боюсь, отравится. Выкладывай, что знаешь, и поменьше слов. Мне известно, что он скрывается в Трезене.
— Смилуйся, господин мой, смилуйся. — Хирам тёр руку об руку, и ладони его двигались как смазанные маслом. — Если мой благородный хозяин соизволит, он может выслушать одну достойную женщину, которой известно кое-что интересное.
— Пусть входит.
Хирам вышел, и вернулся в комнату с особой, оказавшейся не кем иным, как Лампаксо. Прошедшие два года не убрали морщин с её щёк, не сделали более мягким лицо и менее колким язык. Заметив её, Демарат привстал в кресле и дружески протянул руку, повинуясь инстинкту демагога:
— Ах, моя добрая госпожа, кого я вижу? Не жену ли нашего известного рыботорговца Формия? Хороший человек. Как он сейчас?
— Неважно, кирие, неважно.
Лампаксо поглядела вниз, на грязный хитон. Подобное внимание, оказанное персоной, едва уступающей в популярности Фемистоклу и Аристиду, льстило ей.
— Неважно? Горько слышать. Мне говорили, что он благополучно устроился здесь до возвращения в Афины и даже процветает на рынке.
— Конечно, кирие, и, учитывая времена, торговля — хвала Афине — идёт неплохо, и в здоровье ему не откажешь. Но дело-то плохо, очень плохо. Я уже сама была готова явиться к моему благородному господину со своими подозрениями, когда твой друг финикиец разыскал меня и я обнаружила, что интересует его именно это дело.
— Ага! — преодолевая нетерпение, Демарат наклонился вперёд. — И в каком же деле я могу быть полезным такому заслуженному горожанину, как твой муж?
— Боюсь, — пустила слезу Лампаксо и принялась просушивать лицо подолом, — что больше господин мой не станет именовать моего мужа заслуженным гражданином. Вся Эллада знает о патриотизме моего господина. А Формий… ну, он стал сторонником мидян.
— Мидян? — Оратор изобразил изумление с искусством опытного актёра. — Боги и богини! Кому же верить, если уж Формий перекинулся к мидянам?
— Слушай же, — простонала Лампаксо. — Плохо обвинять собственного мужа, однако долг перед Элладой выше семейных интересов. И мой господин проявит своё милосердие, если с глазу на глаз предупредит Формия.
— Женщина, — Демарат нахмурился подобающим образом, — речь идёт об измене, и как истинная дочь Афин ты обязана выложить мне всё, что знаешь, и положиться на моё мудрое суждение.
— Конечно же, кирие, конечно, — Лампаксо приступила к повествованию; то и дело перемежая его стонами и жалобами.
Для начала «добрая» женщина напомнила стратегу о том, как тот расспрашивал её вместе с братом Пол усом о деяниях некоего вавилонянина, торговца коврами, и о том, как им стала очевидна измена Главкона. Далее она поведала о том, что именно её муж помог преступнику бежать морем. Горестно охая, она обвинила себя в том, что не донесла властям об обстоятельствах бегства Главкона. Биас как раз был отправлен с вестью в Могары, но Демарат решил примерно наказать раба сразу по возвращении. Однако, плела свою верёвочку Лампаксо, изменник как будто бы утонул, и все свидетельства канули на дно — в шкатулку Форкия, поэтому она промолчала. И очень жаль.
— Значит, сейчас не следует ничего скрывать.
— Зевс поразит меня, если я о чём-нибудь умалчиваю. Но после его возвращения прошло уже десять дней.
— Его? Кого ты имеешь в виду?
— Сказать это нелегко, кирие. Он зовёт себя Критием, носит длинные чёрные волосы и бороду. Однажды вечером Формий привёл его домой и сказал, что это, мол, проревт с мелианской триеры, стоящей теперь в Эпидавре, но некогда он торговал рыбой и отлично знаком моему мужу. Я ответила тогда Формию, что в теперешние времена нам и самим едва хватает на еду, однако супруг решил проявить хлебосольство. Мне пришлось расстаться с самыми лучшими медовыми пирожками. А ты, господин мой, знаешь, как я горжусь ими.
— Конечно, конечно. — Демарат нетерпеливо взмахнул рукой. — Но продолжай.
— Словом, кирие, мы сели ужинать. Формий всё наливал вина своему другу, будто у нас в погребе стоит не одна крохотная амфора светлого родосского вина, а целый десяток. За это время мореход произнёс лишь несколько слов на дорийском говоре островитян, но сердце моё было неспокойно. Он был таким воспитанным, таким красивым. И корни волос его оказались светлыми, словно бы крашеные волосы успели отрасти. Женский взгляд не обманешь. Когда мы поужинали, Формий приказал мне: «Лезь наверх — и в постель. Я скоро приду. Только оставь одеяло и подушку для нашего друга, который будет ночевать у очага». Мой господин знает, что мы наняли крохотный домик на Плотницкой улице, и за умеренную цену — всего лишь полмины за целую зиму. Я дала незнакомцу отменную подушку и одеяло, вышитое моей внучатой тёткой Стефанией и доставшееся мне по наследству. Удивительную красную шерсть делали в Византии…
— Но ты говорила о Критии? — Демарат едва мог усидеть на месте.
— Да, кирие. Я посоветовала Формию не давать ему более ни капли вина. А потом полезла вверх по лестнице. Матерь Деметра, как я слушала, но оба негодяя разговаривали слишком тихо, чтобы я могла уловить хотя бы слово… Только Критий оставил дорийский и разговаривал по-нашему, по-аттически. Наконец Формий поднялся ко мне, и я изобразила, что сплю. А утром прохвост-незнакомец ускользнул прочь. Вечером он приходит спать, и Формий вновь оставляет его ночевать. И так несколько ночей: поздно пришёл, рано ушёл. И вот наконец он приходит пораньше, чем обычно. И они с Формием выпивают побольше, чем в прошлые дни. А потом, когда Формий отсылает меня, говорят уже громче.
— И ты слышала — о чём? — Демарат впился руками в подлокотники кресла.