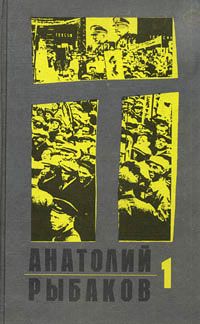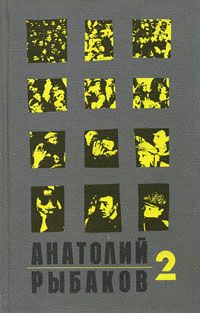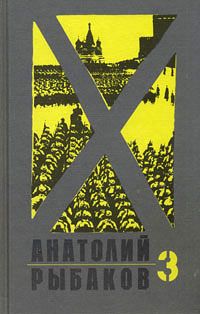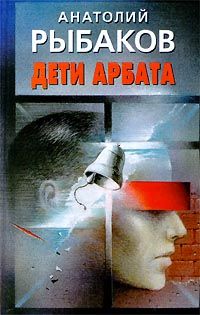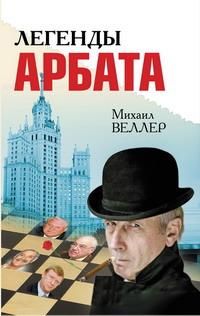Алексей Гатапов - Тэмуджин. Книга 1
– Ты пей первым.
Тэмуджин осторожно принял чашу, долго вглядывался в розоватые разводы на поверхности до краев переполнявшей ее жидкости, будто пытался высмотреть то, что в будущем выйдет от их братания. Наконец, так же осторожно поднес чашу к губам и, глядя в глаза Джамухе, внимательно следившему за ним, медленно отпил половину.
Джамуха с задорной улыбкой, прищурившись, залпом выпил оставшееся и перевернул чашу вверх дном, показывая, что дело сделано.
Тэмуджин выбрал из ровно разложенного ряда стрел лучшую из йори.
– Пусть эта стрела выручает тебя в опасности. Береги ее, она заговоренная.
Джамуха, принимая подарок, приложился лбом к ее древку, подумал о чем-то и растроганно сказал:
– Эту твою йори я выну из колчана последним, только тогда, когда мне будет грозить верная смерть.
Вышли из юрты. У коновязи, перед прощанием, Джамуха достал из переметной сумы плотно набитый мешочек. Тэмуджин узнал замшевый мешок, наполненный бабками. Джамуха, преодолевая смущение, сказал:
– Я знаю, что это не для взрослого мужчины подарок. Но, прошу, возьми от меня на память. Я привез это, чтобы раздарить всем вам поровну, а достойным оказался ты один. Возьми.
Тэмуджин с улыбкой взял увесистый мешочек, поднял высоко над головой, показывая, как он ценит подарок.
– Когда мои дядья разделят отцовский улус и я останусь ни с чем, я разложу перед собой эти бабки и увижу, как на самом деле я богат. И вспомню, что я не один с младшими братьями, что у меня есть анда.
Они крепко обнялись.
Джамуха вырвался из его объятий, вскочил на коня и, резко повернув его, рысью выехал из айла.
«Растрогался, – понял его Тэмуджин, – и не захотел показывать слезы».
Выйдя за молочную юрту, он долго смотрел вслед своему новому брату, пока тот не скрылся за айлом дяди Бури Бухэ.
XVIII
Солнце давно перешло на западную сторону неба, когда Оэлун, наконец, разогнула спину, оторвавшись от темных гроздей брусники, густо устлавших таежную поляну недалеко от опушки, и бросила в наполненный туес последнюю горсть ягод. Терпкий, прохладный воздух тайги взбодрил ее и она, с самого утра без передышки проползав на коленях по земле, обеими руками набирая ягоду, почти не чувствовала усталости.
– Хасар! – негромко позвала она, оглянувшись вокруг.
Тот высунул голову из-за ветвей молодого кедра, вопросительно посмотрел на нее.
– Собери дрова и разожги огонь на опушке, – приказала Оэлун. – Пора отдохнуть и поесть.
С усилием оторвав от земли тяжелый туес, она осторожно засеменила с поляны.
На опушке паслись их оседланные кони на длинных поводках от недоуздков, без охоты щипали пресную лесную траву. Заметив вышедшую из леса Оэлун, они разом подняли свои косматые головы и с ожиданием в больших, умных глазах посмотрели на нее.
– Нет, еще не скоро, – мимоходом, торопливо промолвила Оэлун и только потом поймала себя на том, что начала разговаривать с животными.
Она в бессилии опустила на землю туес и, присев рядом, тихо засмеялась над собой. Тут же, опомнившись, она оборвала смех, смущенно оглянулась вокруг: не видел ли кто-нибудь из детей? Встала, одернув халат, перевязала волосяной пояс.
«Подумают еще, что мать понемногу с ума сходит, – усмехнулась она. – И в самом деле, в голове в последнее время будто все перевернулось. Видно, устала от всех этих потрясений, может быть, и на самом деле что-то там сдвинулось, если уже стала с животными как с людьми разговаривать. А может быть, уже старость подходит… В детстве над старухами смеялась, когда они, забывшись, заговаривали сами с собой, а тут уже сама начинаю чудить… Коротка жизнь, правду, оказывается, говорят старые люди: только начнешь жить и вот уже и конец видно…»
Вышел Хасар с охапкой сосновых сучьев, с треском бросил на землю.
– Здесь? – спросил он.
– Что здесь? – не поняла Оэлун.
– Здесь огонь разжигать?
– Да, разжигай там, – она быстро взяла себя в руки и, встряхнувшись, твердыми шагами подошла к своей кобыле, отвязала от седла увесистую переметную суму со снедью. – Потом сходи и позови братьев.
Те вскоре сами вышли из леса. В стылом, чистом воздухе издалека донеслись их голоса. Еще не видя их за кустами, Оэлун разобрала отдельные слова Бэлгутэя:
– Сегодня первый день новой луны… вечером можно тайменя на мышь половить.
У Оэлун мгновенно сжалось сердце.
«Первый день новой луны! – в груди ее словно раздался отчаянный крик. – Как же это я могла такое забыть?!»
Еще в первые дни после похорон Есугея толстуха Шазгай, утешая ее, говорила, что старухи ближайших борджигинских родов вынесли решение: в последнее новолуние года[48] женщины должны будут ехать в землю предков и совершить тайлган с жертвоприношениями мужьям, ушедшим в мир предков. И с той поры Оэлун терпеливо ждала этого дня, мысленно готовилась к тому, чтобы вместе с подношениями и возлияниями передать Есугею о своих неостывших чувствах к нему. Заранее готовила слова, которые скажет мужу, чтобы он знал, как она тоскует по нему и как ей тяжело жить в этом мире без него. Еще она хотела заверить его, что сделает все, чтобы поднять на ноги детей, чтобы он со спокойным сердцем продолжал свой путь на небе. А еще она собиралась просить мужа, чтобы он почаще обращал свои взоры на землю, на детей и в трудные дни заступался за них перед небесными ханами. Многое она хотела сказать своему мужу…
И сейчас, когда она вспомнила про это, ее словно иглой кольнуло в груди: «Что Есугей подумает, когда не увидит меня среди других женщин племени?..»
Оэлун рывком отвязала повод, не по-женски резво вскочила в седло.
– Побыстрее наполняйте туесы и чтобы до темноты все были дома, – коротко приказала она опешившим сыновьям.
Круто повернув кобылу, она дважды хлестнула ее по гладкому крупу и стремительной иноходью пустилась в сторону куреня.
С самого детства она не скакала так быстро. Да и тогда она не любила гонять коней без нужды. А сейчас она неслась, не разбирая пути, не сбавляя бега, перескакивала через овраги, непрестанно понукая кобылу поводьями и стременами. Любимая ее лошадь, непривычная к такому ее обращению, старалась изо всех сил и все чаще перебивалась с иноходи на рысь, чего раньше с ней не бывало.
Встречный ветер выдувал из суженных глаз Оэлун слезы, они стекали к вискам, мочили волосы, и в том месте она чувствовала пронизывающий холод. В голове обрывками проносились мысли: «Ведь все эти годы они всегда за несколько дней напоминали, приходили советоваться, как и что приготовить, приглашали к общему котлу, а теперь будто забыли про меня… Неужели сговорились, нарочно сделали из-за того, что я отказала Даритаю?»
Дома она застала одного лишь Тэмуджина. Тот убирал стрелы в отцовский сундук.
– Где другая мать? – Оэлун быстро прошла на женскую половину и взялась за туески и мешочки.
– Сочигэл-эхэ[49] еще утром села на свою лошадь и уехала.
– Куда?! – резко обернулась Оэлун, побледнев, и сжала зубы так, что на скулах ее бугорками выступили желваки.
– Не знаю.
– Что она сказала?
– Ничего не сказала.
– Что взяла с собой?
– Налегке уехала.
Оэлун задумалась.
«Если налегке, значит, не на тайлган, не к Есугею…», – забившееся было от ярости и ревности сердце в груди успокоилось и Оэлун, не теряя времени, продолжала приготовления. Налила в два малых туеса арзы и хорзы, положила в суму масла, сметаны, творога, приказала Тэмуджину все уложить в переметную суму, а сама переоделась в обшитый синим шелком теплый халат из ягнячьей шкуры.
Уже садясь в седло, чувствуя на себе не отстающий вопросительный взгляд сына, она пояснила:
– Сегодня женщины брызгают предкам, а меня не предупредили. Хоть и стыдно ехать с опозданием, но надо, отец ждет… – Помолчав, она вздохнула и тронула лошадь.
* * *Когда Оэлун, наконец, добралась до земли предков, там уже все подходило к концу. В стороне от могильного холма, в пожухлой травянистой низине кругами сидели женщины племени. По виду почти все они были уже хорошенько выпившие. Окинув их косым взглядом, Оэлун отметила, что на этот раз приехали женщины даже из дальних родов.
«Значит, заранее готовились, они не могли сговориться в один день, – окончательно убедилась она. – А меня нарочно отделили…»
В воздухе вместе с сизым дымом потухающих костров плыли резкие запахи жжёного мяса и масла. Беспорядочный гомон голосов глухо расходился вокруг. Не слушая друг друга, покачиваясь из стороны в сторону, женщины потухшими глазами смотрели перед собой и невнятно бормотали что-то свое – они переговаривались с духами из потустороннего мира.
Заметив ее, некоторые замолкали, толкая друг друга локтями, провожали любопытными взглядами. Оэлун, не задерживаясь, не глядя на лица, сразу проехала к середине, чтобы поклониться старухам.
На толстых, вчетверо сложенных войлочных подстилках сидели Орбай и Сохатай, суровые вдовы хана Амбагая, много лет назад погибшего в чжурчженском плену. После того, как умерли жены предыдущего хана Хабула, эти две старухи взяли власть среди женщин племени и все сколько-нибудь значительные дела в семействах борджигинских нойонов, относящиеся к ведению женщин – приготовления к свадьбам, похоронам, принятие женихов, проводы невест, обряды уложения в колыбель новорожденных, подношение предкам – вершились под их строгим присмотром. Властолюбивые и придирчивые, для Оэлун они были самыми вредными в первое время ее замужества. Тогда, во время войны с татарами, семьи киятских и тайчиутских нойонов жили одним куренем, айлы их стояли в одном кругу и Оэлун в долгое отсутствие Есугея жила под присмотром этих двух старух.